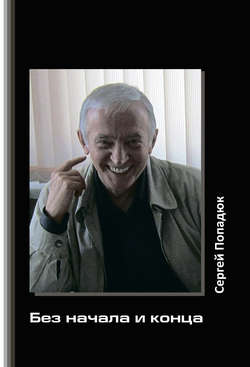Читать книгу Без начала и конца - Сергей Попадюк - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1974
История художника (отрывки из неудавшейся курсовой работы 1969 г.)
ОглавлениеКак определить тот момент, когда человек становится художником? В детстве рисуют все, после двенадцати лет – уже немногие. Бывает и так, что человек обнаруживает в себе художника, когда ему далеко за тридцать; так было с Полем Гогеном. Почти не бывает, чтобы полусознательное детское творчество непосредственно перерастало в жизненную задачу.
Чаще всего пробуждение совершается внезапно. Толчком может послужить сущая мелочь: увидел где-то яркое месиво красок на палитре и их чудесное превращение в почти законченном этюде, короткие, упруго-липучие прикосновения кисти к туго натянутому на подрамник холсту, зернистая фактура которого кое-где просвечивает из-под нанесенного красочного слоя, почувствовал упоительный запах скипидара, очаровался языком ремесла: мастихин, подмалевок, эскиз, лессировка… Потом от внешней прелести не остается и следа: она уступает место бесконечной прозаической борьбе с материалом. Человек, целиком сосредоточенный на своей работе, не заботится о том, как он выглядит со стороны.
Иногда кажется, что материал наконец подчинился, намерение победило, и ты отступаешь, удовлетворенный. Но проходит несколько дней, и становится ясно, что победа только почудилась; минутное торжество сменяется унизительным чувством бессилия. Много мужества требуется от подростка, чтобы снова вступить в борьбу и, преодолевая удручающее изнурение, продолжать ее годами.
Потом начинается настоящее учение. Вдруг оказывается, что творчество вовсе не в том состоит, чтобы создавать одни шедевры. В художественной школе рисуют гипсовые цилиндры и конусы, фрукты из воска, кувшины, лукошки, драпировки… Для этого не нужно таланта, а лишь точность глаза и твердость руки, и у многих сверстников это получается лучше. Но ограниченность задачи способствует постепенному овладению техникой. А талант проявляется, скорее, в особом чувстве цвета, индивидуальная фантазия – в композициях на заданные темы. Затем цилиндры и конусы сменяются головами Диадумена, Сократа, Гаттамелаты, и преподаватель, расхаживая за спинами учеников, говорит о том, что академический рисунок – это система, обучить которой можно даже лошадь. Усидчивую и терпеливую лошадь.
В рисовальном классе под сводами, где ставни всегда закрыты и мольберты стоят в три ряда перед ярко освещенными слепками, исполнение полностью соответствует замыслу, они взаимно подчиняют и исчерпывают друг друга. Можно всю жизнь развиваться в этой плоскости, постепенно наращивая мастерство, не удивляя себя находками и не страдая от несовершенства. Подлинное художественное развитие идет стороной – в музеях, перед картинами великих, на концертах органной музыки, в толпе, среди обрывков чужого разговора, над книгами, которые все читают, и над книгами, которых не читает никто…
Я познакомился с Валерием на Худ-графе МГПИ. Среди нас, первокурсников, он выделялся странной самопогруженностью, резкой нетерпимостью суждений и зрелой завершенностью работ, в которых приоткрывался особый, ни на что не похожий алисовский мир. И нам, и преподавателям было ясно, что делать ему среди нас нечего: он знал и умел гораздо больше, чем способно дать любое обучение.
У себя в Иванове он окончил художественную школу. Я тоже окончил художественную школу и знал, что тому, что делал Алисов, научить невозможно. Впечатление было такое, будто художник, в совершенстве владеющий техникой, вдруг одним махом отбросил все остальное, чему его учили, и выпустил на волю безудержную фантазию.
…Бездушные маски разыгрывают фарсы подсознания среди глухих стен, заворачивающих неведомо куда. Злые куклы издали вредят друг другу, Пьеро свисает со стены белыми рукавами, кровь из распоротого живота густо стекает вниз, и остановившиеся взгляды масок из пустых щелей обдают сердце холодным отчаянием, как в беззвучном кошмаре, где всегда присутствует какое-то лишнее измерение. Оно допускает любые возможности, неожиданные, непонятные, кощунственные, и художник с холодным любопытством, с ужасающей детской наглядностью исследует и воплощает эти возможности.
Сквозной мотив этого периода – распятие. Пригвожденная к кресту пузатая (беременная?) баба; та же баба в зеленоватом луче тягостного бреда, осененная размахом стальных крыльев, сменивших перекладину креста, тогда как ослепшее доброе начало (Христос?) бессильно склоняется перед ней; и опять маски, кружащиеся в дьявольском хороводе, а над поднятой ими вьюгой раскачивается, как видение бретонских рыбаков, серебряный крест с прикрепленным к нему ублюдком… Маска, которая обманывает, скрывает, утаивает… пустоту, ничто; отвлеченная безликость марионетки, куклы, как представление о чуждой, нечеловеческой силе, управляющей людьми; трагедия куклы… Всё это – испытанные мотивы романтического гротеска. И этим языком Алисов владел в совершенстве.
Отсюда – один шаг к сюрреализму. Монументальный рисунок «Скорбь королей», с его классически отточенной линией и виртуозной моделировкой, демонстрирует почти механическую легкость в использовании претенциозно многосмысленного, торжественно отстраненного заимствованного языка. Но банальная комбинаторика и намеренная элементарная иррациональность сюрреализма скоро приедаются, как уже приелись и были отброшены так же легко, играючи освоенные прочие пустопорожние символы модернизма. (Он играл в арлекинады «мирискуссников», в Шагала, Дали, Кандинского, подобно тому как юный Пушкин играл «в Державина», «в Парни», «в Жуковского»… играл, превосходя свои образцы и оставаясь ни на кого не похожим, – peregrinus proteus по Зедльмайру. Да и в академических своих работах развлекался микроскопическими обманками: изображением кракелюр в уголке законченного портрета, мухи, севшей на глаз натурщицы.) На смену приходит увлечение итальянскими «примитивами» XIV в. и Брейгелем. Краска ложится тонкими плоскими слоями, с филигранной проработкой полутонов, и глуховатая, суровая гамма темперы вполне отвечает свойствам создаваемого кристально-четкого мира ритуализованных намеков и тягостной достоверности «ночного сознания».
Предаваться головоломным выдумкам – еще не значит быть художником, но быть художником – значит выдерживать ветер из миров искусства, совершенно не похожих на наш мир, только страшно влияющих на него…
Блок. О современном состоянии русского символизма.
Впервые я увидел эти работы в комнатке, вернее, на остекленной веранде дачного домика в Вострякове, которую Алисов снимал пополам с Владиком Миллером. Общежитие для Худ-графа еще не выстроено, а комната в Подмосковье стоит дешевле, чем в городе; для студентов с 22-рублевой стипендией это немаловажно. Обстановка спартанская: железная кровать с продавленной сеткой, стол, заваленный тюбиками краски и обрывками рисунков, трехногий мольберт. Единственный источник тепла – включенная электроплитка, но она не может растопить ледяные наросты на стеклах и в углах веранды. И музыка – Бах или Вертинский, – сопровождающая самозабвенную работу. (Да, наличествует еще большой шкаф, набитый хорошими, дорогими пластинками.) Проигрыватель без корпуса – вся механика наружу – часто отказывает, но зато две колонки имитируют стереофонию. Под медленные звуки хоральных прелюдий художник тонкой кистью выделывает детали суровых «дорических» композиций. Когда пластинка останавливается, он досвистыва-ет окончание опуса, поматывая головой и расширяя блестящие глаза; потом толкает пластинку дальше.
Время от времени приходится отрываться от работы, чтобы выполнить очередное задание по черчению и начерталке. (Пользуясь свободой Худ-графа, Алисов редко посещал занятия.) Возвращаясь из института, Владик приносит ему бутылку кефира и полбатона. Иногда появляется какая-нибудь подработка – и вот уже можно купить себе новые брюки. А краски институт выделяет бесплатно.
Посещая веранду в Вострякове, я каждый раз чувствовал абсолютную несовместимость моих привычных представлений со всем тем, что делал и говорил Алисов. Мы спорили – если можно назвать спором эти вспышки нетерпимой раздражительной иронии, какими он встречал (и мгновенно опрокидывал) мои рассуждения. Но за вспышками, за косноязычной субъективностью возражений проступала и постепенно покоряла меня неизвестная мне – да что там! – всем нам тогда неизвестная подлинная художественная культура.
Я познал изумление, интимное и внезапное замешательство, и озарение, и разрыв с привязанностями к моим идолам тех лет. Я ощутил молнийное внедрение некоего решающего духовного завоевания.
Валери. Письмо о Малларме.
Меня покорял образ фанатика, всецело погруженного в мир своего воображения, в мир «беспокойных грез, неотделимых от действительности» (Ревалд). Грезы странным образом гармонировали с действительностью: в произведениях, одно за другим возникавших на этой ледяной веранде, господствовал снег, огромные снежные пространства с безжизненными далями, голые, черные деревья и такие же застылые персонажи с загадочным «джоттовским» разрезом глаз и пугающе замедленными движениями. И вполне последовательно рождается в этом ряду вариация на блоковскую тему уснувшего в снегах матроса.
Корабль уходит в свинцовое море. Уже поставлены паруса, уже последняя шлюпка покидает заснеженный берег, с кромки которого еще кричат и машут оставшемуся, но он ничего не замечает вокруг. Встав на ходули, в белой своей рубашечке с голубым гюйсом, в окружении обступивших его жителей Пошляндии («бухгалтеров», как назвал их сам автор) – в черных мантиях, больших круглых очках и на тонких ножках – беспомощно и старательно, в каком-то сонном оцепенении демонстрирует он им свое пустяковое искусство, а вульгарный рев оркестра заглушает призывные клики с моря. Он обречен, с ним покончено, и серебряные ангелы отпевают его…
В самом чистом, в самом нежном саване
Сладко ли спать тебе, матрос?
Блок
На моих глазах проще и изысканнее становилась композиция, строгая локальность цвета сменялась тончайшими переливами, а штриховая проработка формы «под мастеров треченто» достигала кропотливейшей изощренности. Отрешенный, прохваченный интеллектуальным холодом алисовский мир все больше завораживал меня. Но осознал я это только задним числом, в армии.
Конечно, годы непрерывного одержимого труда, основанного лишь на созданиях фантазии и на изучении художественных альбомов, свидетельствуют о богатом творческом потенциале. Или о тупике, вроде тех, в каких оказались творческие антиподы прошлого: Брюллов и Крамской. Один слишком легко нашел, другой слишком мучительно, обреченно искал. Все тот же замкнутый круг замысла и исполнения… И когда по возвращении из армии, уже переметнувшись с Худ-графа на истфак МГУ, я бросился разыскивать обретенного кумира, то нашел совсем другого Алисова.
– Все это была похабель, – отмахнулся он от прежних своих работ. – Я говорил несвойственным мне языком. Я выговорился.
Бумага, закрашенная мертвенно-белой хлорвинилацетатной темперой, прорвалась («Окно») – там оказался не новый мир, а пустота, ничто, как за масками романтического гротеска. После «Весны» и «На берегу» он не создал ничего – если не считать академических заданий, – для этого тоже требуется мужество.
Художник не священнодействует на отведенной ему поверхности – он любую поверхность покрывает символами овладевшей им идеи. Если идея сильна, неожиданна, самоочевидна, он не заботится о символах, о форме – он торопится высказаться. Форма не имеет значения, он берет первую попавшуюся, лишь бы годилась в дело. Отсюда изменчивость, гибкость формы в пейзажах, написанных летом и осенью 1967 г.
Освободившись от аскетизма предшествующего «символистского» периода, Алисов словно растворился в красочном богатстве французских пейзажистов XIX – начала XX века, упиваясь сочностью раздельного мазка, неумеренной пастозностью в разработке фактуры листвы, травы, деревьев, дополняющей выразительность цвета неистово вьющимися движениями кисти. Откровенная стилизация в этих картонах иногда переходит в прямое цитирование: подмосковный «Пейзаж с фигурой» кажется выполненным в окрестностях Понт-Авена. Автор как будто соревнуется с мэтрами постимпрессионизма, нимало не уступая им в мастерстве. Довольно быстро, впрочем, диапазон разнообразия сужается, чужеродная роскошь уступает место простому, непосредственному контакту с реальностью. Пелена посторонних впечатлений рассеивается, и все отчетливей проступает свежесть легких утренних облаков, прозрачность воздуха между распахнутыми оконными рамами, грусть заброшенных церковных ступеней под моросящим дождиком, пасмурная безлюдность провинциальной улицы, осенняя тишина зеленой дачи…
Что же должно было произойти, чтобы художник, целиком сосредоточенный на своих фантазиях, питавшийся исключительно впечатлениями искусства, вдруг так жадно кинулся навстречу живой природе? Камилл Моклер объясняет эту метаморфозу «бессилием создать новый символизм, без которого живопись умрет от несоответствия между избытком виртуозности и бедностью идеалов»32. Сам Алисов приписывает причину такого перелома случаю, почти чуду. Зашел в церковь на Пасху, отстоял пасхальную службу и вышел преображенный.
– Я понял нравственную ценность искусства. Работать надо так, чтобы все созданное тобой воплощало лучшее в человеке. Истина постигается через природу, а пейзаж – это чистая эмоция. Сумеешь ее передать – это и будет искусство. А как – неважно. Так икона становится чудотворной…
Тем не менее с этюдами покончено. Зимой 1967–1968 гг. он работает главным образом по памяти. Дописывает, в частности, начатый летом «Двойной портрет». С натуры портрет (родителей его жены Ольги Беляковой, нашей бывшей однокурсницы, редкостной стервы) не давался и вдруг пошел, когда художник остался с ним наедине.
Зеленовато-золотистая гамма решена переливами всего двух основных цветов (одно это обличает необыкновенный колористический дар, сродни Веласкесу и Эдуарду Мане). Ни одного лишнего мазка! – каждый точно и тонко вплетается в общий тон, напряженно дыша из-под последующих наслоений; то усиливаясь, то ослабевая, основной аккорд разбегается по всему холсту, каждый сантиметр которого выглядит самоценным, законченным куском живописи. Сопоставление резкого поворота головы и телесной компактности женской фигуры с аморфной, расплывающейся, потусторонней фигурой мужчины, угасающий вечерний город за ними, тень, до половины скрывшая лица, – все это порождает особую, только Алисову свойственную атмосферу тревожной многозначительной недосказанности, то лишнее измерение, которым отличались самые ранние его работы. Почти не прибегая к индивидуальным и психологическим характеристикам, художник делает ощутимым присутствие судьбы, воспроизводит беззвучный диалог персонажей друг с другом и со смертью.
Теперь он отталкивается от реальности, а не отворачивается от нее. Он возвращается к темпере, но смешанной с льняным маслом, пишет мелкими сплавленными мазками, слой за слоем, добиваясь звучности цвета и драгоценной, как эмаль, красочной поверхности. На небольших квадратиках оргалита возникают волшебные, мерцающие из глубины, магические произведения: «Красный корабль», «Японский дворик», «Валки»… И, наконец, крупное «Клементьево», где фронтальный фасад ветхого деревянного здания клиники для душевнобольных темно-коричневым силуэтом заполняет плоскость картины. Сумерки скрывают безумную тревогу, охватившую сумасшедший дом: если присмотреться, можно разглядеть множество маленьких фигурок, которые мечутся в темных оконных провалах, рвутся из них наружу, из одной темноты в другую; развеваются халаты взбегающих по лестнице санитаров, тучи стремительно наваливаются на крышу, и, как последний отблеск сознания, трепещет ржавой осенней листвой березка во дворе.
В этих вещах сконцентрировалась для меня сегодняшняя проблема профессии: художник, освоивший весь опыт искусства, в том числе иллюзорные искания XX в., владеющий этим опытом «на равных», изощренный, универсальный, – находит выход в бесхитростной свежести взгляда. (Тяга к наиву и раньше была в нем сильна. Вспоминаю, как однажды вечером мы шли под дождем к Дементию слушать привезенную Гарюхой из Ленинграда запись Луи Армстронга. Вдруг Валерка метнулся в сторону и на четвереньках полез под припаркованную у обочины машину. Вернулся с извлеченным из лужи листком плотной бумаги. Это был детский рисунок цветными карандашами. И как он его углядел! «Вот настоящее искусство», – проговорил с неподдельным восхищением и бережно спрятал рисунок под куртку. А я тогда принял это за богемное чудачество.)
Поколение утонченное, руководимое не знающим меры критическим чутьем, склонное к умствованиям, нервозное, беспокойное, в силу того, что, будучи способно понять все направления, не могло предпочесть ни одного из них… ухватилось за соблазнительную и опасную идею: спасение в невежестве.
Моклер. Три кризиса современного искусства.
Но в том-то и дело, что бесхитростность не дается произвольному выбору. Обретенное мастерство исключает наивность. Вернуться к таможеннику Руссо, Пиросмани, Генераличу уже невозможно; всякая подобная попытка будет лицемерием, ложью, неприемлемой для серьезного, искреннего творца33.
Невозможно вернуться к истокам, жертвуя разумом и духом. Невозможно восстановить миф и религию на основании искусства. Но этой попытке присуще нечто героическое, и даже в своем провале она обладает известным величием.
Зедльмайр. Революция современного искусства.
И если нельзя забыть в себе художника, остается – перестать им быть. Дело не в «бедности идеалов», о которой писал Моклер… Пережитое пасхальное откровение подсказало другой, последний выход: реставрация и поновление церковных стенописей.
…Бригада состоит из художников так называемого андеграунда, для которых церковные заказы – лишь возможность заработка. Среди них Алисов, со свойственной ему одержимостью и искренней верой в Бога, выглядит юродивым; они, кажется, даже не подозревают о его творческом прошлом. (А он, отрекшись от своего прошлого, уйдя под власть канона, именно тогда без сожаления отдал мне все свои холсты, картоны и папки с рисунками.) Участвуя в их застольях, я был свидетелем того, как после нескольких стаканов водки они начинали, матерясь и стуча кулаками по столу, всерьез выяснять отношения: кто из них первый русский художник, кто второй, кто третий… (Их работы были мне знакомы по американскому изданию «Неофициального русского искусства», которое я рассматривал в мастерской Сарьяна в Ереване; признаться, они мало меня интересовали.) Я поглядывал на Алисова: он отмалчивался. Я тоже не лез в эти споры. Я-то знал, кто здесь настоящий художник.
Витя Стрижков подметил верно: все это теряет цену оттого, что не получило развития. Только расцвет, цветение освещает предшествующий процесс созревания и роста; без него этот процесс теряет смысл, как путь, прерванный в самом начале. Но иначе не было бы легенды. Да и так ли уж верна эта узкая мысль о необходимости результата…
А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени
На стенах.
Может быть, отказом
Взять?
Цветаева
Особенно в наше время, когда сплошь да рядом блестящие дарования обращаются в ничто, в продажных бесцветных поденщиков. Может, в том-то и состоит теперь доблесть, чтобы назло всему закопать свой талант, не дожидаясь, пока его запрягут, продадут и разменяют, гордо отказаться от него, доказав его несомненность, оставить только прекрасное и грустное воспоминание о нем как самый выразительный памятник нашей эпохи. Блажен, кто молча был поэт…
В искусстве трудно сказать нечто такое, что было бы столь же хорошо, как: ничего не сказать.
Витгенштейн. Культура и ценность. 119.
В конце концов жизнь – это жест. Жизнь каждого из нас – жест, притом один-единственный; нужно, чтобы он был законченным.
* * *
15.04.1974. Прекратился наконец поток помоев в адрес Солженицына.
…Со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам… накопляют себе капитальцы, устраивая судьбу свою за счет других; но как только случится что-нибудь, по мнению их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех углов как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг крики…
Гоголь. Мертвые души. I. 11.
Удивительнее всего, что всегда в подобных случаях находятся какой-нибудь «монтажник», какая-нибудь «доярка», какой-нибудь «академик» и непременный Сергей Михалков, всякой жопе затычка, – такой отстоявшийся в последнее время набор лиц, долженствующий отразить широту общественного мнения, – которые, видите ли, «не могут без гнева и омерзения читать опусы литературного власовца». Да где же вы их читали, скажите на милость? В областной периодической печати, что ли? Или самиздат чекисты вам приносят на дом? Можно подумать, что у нас все прилавки завалены этими «опусами», что прямо отбоя от них нет… Низко, господа хорошие! Я уж не говорю о том, что вы же сами через десяток лет с пеной у рта будете славословить охаянного автора, с пафосом первооткрывателей объявите его гордостью русской литературы34; но вы публично поливаете грязью человека, у которого рот заткнут, который не имеет возможности публично же вам ответить и о котором сами вы знаете только понаслышке. Уж по одному этому все ваше благородное негодование смешно и омерзительно.
Разве не забавно у них еще вот что: своим злейшим врагом считают они того, кто говорит им правду…
Платон. Государство. IV. 426.
Да что я, в самом деле! Как будто все это действительно пишется монтажником и дояркой… Вот Михалков – тот сам пишет, столбовой дворянин, инженер детских душ, халдей трактирный.
Выслужился блядин сын, пять рублев ему государева жалованья, да сукно, да погреб!
Житие протопопа Аввакума.
А впрочем, почему бы и нет? Ведь мы живем в обществе, сумевшем полностью изжить какие бы то ни было нравственные нормы, в обществе, где от каждого можно ожидать всего, абсолютно всего! «Ведь в том-то и ужас, – говорит Достоевский, – что у нас можно сделать самый пакостный, самый мерзкий поступок, не будучи вовсе мерзавцем».
Культурный, интеллигентный человек, живущий самыми высокими запросами и говорящий на одном с тобой языке, вдруг, неожиданно, оказывается скотиной. Один случай меня поразил. Когда с Комечем и Колей Каменевым мы обследовали Ярославский район, к нам однажды присоединился Сева Филиппов. Мы подъехали к действующей сельской церкви. Уже смеркалось, глухомань. Староста, пожилая робкая женщина, напуганная нашими «государственными» бумагами и апломбом, впустила нас в церковь. С обычной нашей бесцеремонностью мы разбрелись по наосу, раскинули штативы, установили подсветку, защелкали затворами фотокамер. Невзирая на слабые протесты старосты, влезли и в алтарь. Там, на престоле, горкой были сложены иконы, снесенные сюда прихожанами. Потом, когда «газик» отъехал порядочно от этого места, Сева вытащил из кармана и показал нам прелестную маленькую иконку, прихваченную им с престола. Все принялись со знанием дела обсуждать ее достоинства. Я взорвался и, не стесняясь в выражениях, выложил Севе все, что о нем думаю.
– Да они не заметят пропажи! – искренне удивился он.
– Заметят, не заметят!.. Ты не просто чужую вещь спер, ты в душу плюнул. Все равно что ребенка ударил – безнаказанно!
– У меня же коллекция, – как маленькому втолковывал мне тугощекий Сева. – Я взял ее для коллекции. Мне она нужна, а они и не заметят…
– А вы, Сережа, оказывается, пурист, – поддержал его Комеч.
Вот и толкуй с ними! Попробуй объяснить, что можно пьянствовать, распутничать, сквернословить – и все-таки гнушаться некоторых поступков. Целесообразность у них оправдывает все! Милые, умные, проникновенные… потенциальные предатели. Сколько их! И как редко встретишь человека, про которого с уверенностью можно сказать, что кое-чего он никогда не сделает.
Мне нелегко это говорить, я хотел бы ошибиться, но я не вижу вокруг себя и тени благородства.
Стендаль. Записки туриста.
Итак, советское общество стошнило Солженицыным. («Перевели обличителя», – сказал бы Аввакум.) Свидетельствует ли это о здоровом желудке советского общества?
* * *
Советский самолет, пролетая над Африкой, потерпел аварию. Уцелело от катастрофы трое пассажиров. А так как произошла катастрофа в глухом районе, оказались эти трое в руках дикарей, каннибалов.
Вот схватили их дикари, привели к своему вождю. Вождь говорит:
– Кто из вас назовет то, чего у меня нет, получит свободу. Отпущу на все четыре стороны. С остальными поступлю по своему усмотрению.
Вот первый из этой троицы подумал-подумал и говорит:
– Золота у тебя нет.
Вождь усмехнулся, ковырнул носком землю и выкатил самородок. Махнул рукой своим:
– Сожрите этого к черту!
Настала очередь второго. Посмотрел он вокруг, видит – рожи у всех страшненькие.
– Красивых женщин, – говорит, – что-то не наблюдается.
Вождь только пальцами щелкнул, и тут же выталкивают из толпы молоденькую негритяночку невозможной красоты.
– Дайте, – говорит вождь, – ему с ней побаловаться. Потом съешьте. Ну а ты что скажешь? – обращается к третьему.
Тот строго посмотрел на вождя и спрашивает:
– Партком у вас есть?
Молчит вождь.
– А местком?
Молчание.
– Ну, хотя бы первичная комсомольская организация?
Молчит вождь, только краснеет.
– Нету? Так где же вы, гады, научились людей жрать?
* * *
24.05.1974. Гулял под дождем. В Тамбове, помнится, ливень захватил нас в артиллерийском парке. Мы только что выкатили орудие к тягачу и заперли бокс. Вдруг полилось! Все кинулись кто куда, полезли под машины, набились в кабины. Я оказался в кабине тягача. Дождь долго не кончался. Тогда поодиночке и группами стали убегать под дождем в казарму. До казармы было далековато, поэтому, чтобы не промокнуть, я снял с себя все, свернул в узелок и с узелком подмышкой не спеша отправился вслед за другими. Я так и пришел в казарму нагишом. Когда взошел на крыльцо, выглянуло солнце, хотя дождь еще не перестал. Вся батарея, столпившись у окон, шумно меня приветствовала. В коридоре богатырь Бранд обнял меня и закричал: «Вот это Дючок! Люблю Дючка!»
* * *
4.07.1974. Морковка с мальчиком вернулась из больницы. Он – маленький, потому что недоношенный (семимесячный), очень смешной: этакий лягушонок, козявочка. Все время спит. Приходится расталкивать, чтобы поел. Назвали мы его Семеном, Сенечкой. Митя тут же дал прозвище: Сэм-Калитка, – за тихий скрип, изредка издаваемый.
Митю, вернувшегося из лагеря, я встретил накануне, а сегодня проводил в другой лагерь, на вторую смену. В промежутке он деятельно помогал мне готовиться к приему маленького. Митька – настоящий товарищ, хороший человечек. Горжусь им и не перестаю ему удивляться. В лагере, как мне рассказали, на вопрос – кто хочет быть председателем совета отряда? – все закричали: «Чур, я! Чур, я!» Один Митя сказал: «Чур, не я». Когда у него поинтересовались, почему так, он ответил: «Да не люблю я вообще всяких начальников». Его сразу зауважали. Начальником, правда, ему пришлось все-таки стать: он оказался единственным, кто смог запомнить текст рапорта.
* * *
Когда мы с Американцем, десятилетние, бегали на лыжах в Переделкино, мы, конечно, ничего не знали про нашу дальнейшую жизнь. Мы знали только, что навсегда останемся друзьями, но не могли предвидеть, что когда-нибудь, лет через двадцать, он через всю Москву на руках притащит ко мне детскую коляску, оставшуюся от его выросшей дочери. Долговязый, сановитый, слегка уже обрюзгший и полысевший Американец…