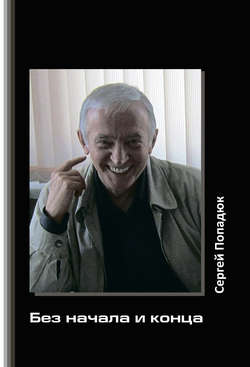Читать книгу Без начала и конца - Сергей Попадюк - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1975
Абсолютный вкус
Оглавление– Я знаю, я.
Пушкин. Моцарт и Сальери.
Ну вот, перечитал предыдущую запись и убедился, что – банально в высшей степени. Банально до последнего слова!
В чем банальность? А я скажу… В том, что все это написано, словно под диктовку. Словно то, что я написал, когда-то и кем-то, каким-нибудь Стефаном Цвейгом, уже было написано, а я писал с чужих слов, припоминая прочитанное… Отчетливое ощущение вторичности – его не обманешь.
А я ведь еще с трудом удержался от того, чтобы оформить концовку следующим образом: «Ли Дань навсегда остался в караульном помещении. На порог вышел и направился к своей повозке Лао-цзы, мыслитель, каких мало в истории…» и т. д. Это был бы верх пошлости.
Ох уж этот стереотип формы!
Вся беда в том, что у меня вкус абсолютный. Погодите, не смейтесь, это не только шутка. Ведь существует же абсолютный слух, правда? Это разные вещи, конечно, но все же…
Так вот, абсолютный вкус – это, действительно, беда. Потому что в первую очередь он оборачивается против собственных творений. Он, как Кронос, пожирает собственных детей. Вернее, не дает им родиться.
Да, благодаря своему вкусу я способен «отличить превосходное от хорошего» (по Жермену Боффрану), увидеть в чужом произведении то, чего другие не замечают, я способен безошибочно распознать любое проявление гениальности и интенсивно, по-своему, насладиться им, не обманываясь ложными эффектами, – все это так, но при всем том для меня заперта возможность самостоятельного творчества.
Для суждения о прекрасных предметах, как таковых, нужен вкус, а для самого изящного искусства, т. е. для создания таких предметов, требуется гений.
Кант. Критика способности суждения.
Мой вкус давит, парализует меня. Имея отличнейшее понятие о гении, он и от меня требует только гениального выражения, причем его абсолютное требование настолько расходится с моими реальными возможностями, что последние просто не смеют обнаруживаться. Но поскольку потребность обнаружиться все же довольно сильна, мои возможности из какого-то подсознательного желания казаться более благопристойными и солидными, чем они есть на самом деле, выползают на свет божий в напяленной маске чужого стиля. Вот почему все, что я сделал, отмечено печатью вторичности, «литературности», т. е. банальности.
Я более близок к своему литературному идеалу прекрасного, когда я наслаждаюсь произведениями других и оцениваю их, размышляю об их достоинствах, чем тогда, когда пишу сам.
Стендаль. Анри Брюлар.
Вот почему мне так тяжело работать, и не сделал я пока ничего, что удовлетворило бы меня самого. Ведь я слишком хорошо понимаю.
Возможно ли терзание более чистое, раздвоенность более глубокая, нежели это внутреннее противоборство, когда душа сочетается поочередно с тем, чего хочет, против того, что может, и с тем, что может, против того, чего хочет; и когда, отождествляя себя то со своими возможностями, то со своими влечениями, она мечется между всем и ничем?
Валери. Тетради.
«Ах, какие прекрасные вещи можно было бы написать, если бы не мешал вкус», – восклицает Жюль Ренар.
Значит, с одной стороны, мой абсолютный вкус искажает мои творческие проявления, с другой – он обрекает меня на бесплодие, так как проявления, которые постоянно не удовлетворяют самого творца, сами собой атрофируются понемногу.
В том-то и беда великая, в том-то и «горе-злосчастье» всей моей жизни, что я все, совершенно все понимаю, – и ничего, совершенно ничего не произвожу.
Ап. Григорьев. Безвыходное положение.
Смею думать, что великие художники всех времен и народов не обладали абсолютным вкусом, ибо гений всегда есть отступление от общего правила, нарушение установившейся эстетической нормы, а абсолютный вкус способен только оценить нарушение, но ни в коем случае сам его не допустит.
Пропасть между «знанием» и «умением», быть может, больше, а также страшнее, чем думают: возможно, что могущий в высшем смысле, т. е. творящий, должен быть незнающим…
Ницше. По ту сторону добра и зла. VIII. 253.
Вы спросите, откуда взялся у меня этот абсолютный вкус? А я отвечу: от безделья. То есть, конечно, унаследованная мною способность создала благоприятные условия для роста и культивирования утонченной, обостренной восприимчивости, но вырастил и обиходил я ее сам, а именно – посредством систематического безделья. Никогда в жизни я не занимался трудом, который целиком захватывает все силы и все время человека, вольно или невольно стремящегося к определенной узкой цели. Именно безделье дало мне возможность много читать, смотреть, слушать, сравнивать, часто и капризно перемещая свое внимание, смаковать, возвращаясь к одному и тому же, а также самому писать, рисовать, играть, пробуя свои силы то в том, то в другом и подчиняясь исключительно собственным прихотям. Никогда и ни к чему не был я привязан всерьез, разве что ненадолго. Вот вам рецепт абсолютного вкуса. Но, конечно, что-то должно быть и заложено. И, повторяю, это – тяжелый крест.
* * *
«”Гений“, – пишет Малкольм Каули, – означает все то, что по существу является даром подсознательного мира – мира вдохновения, воображения, творческой интуиции – даром муз, как в старину говорили поэты. ”Талант“ же воплощает сознательное мастерство, благоприобретенную технику и критическое чутье, проявляющееся у авторов при обработке их произведений. (…) Я пользуюсь этими словами для выражения резкой качественной противоположности обоих понятий»41. И в подтверждение своей мысли Каули цитирует Эмерсона: «Как много молодых гениев мы встречали, о которых никто, кроме нас, никогда не узнает только потому, что не было в них ни капли таланта».
Гений без таланта, талант без гения, различные соотношения того и другого…
* * *
10.03.1975. Умер Михаил Михайлович Бахтин. Похороны состоялись вчера утром, а объявление о смерти появилось только в сегодняшней вечерней газете. В какой же все-таки подлой стране мы живем! К этому невозможно привыкнуть.
Из всех выдающихся современников это единственный, кого проводитья считал своим долгом. Здесь не «общественная активность», не суета. Мне трудно объяснить это. Дело, должно быть, в том, что это был единственный и пока что последний мудрец в нашей жизни. Вот именно – мудрец, а не умник. (Умников-то полным-полно вокруг.)
Какой контраст с нашими мудрствующими историками, которые претендуют на открытие новых истин и на гениальность, продавшись, как всем известно, в надежде на место в Академии или на денежную мзду!
Стендаль. Записки туриста.
Впрочем, и уму надо отдать должное. Что такое ум? Ум – это ум-ение. Умение воспринимать действительность такой, какова она есть, адекватно отражать ее в своем сознании, анализировать и сообразовываться с нею. Умение выбирать достижимые цели и наиболее эффективные пути, ведущие к ним, быстро и правильно взвешивая все «за» и «против», не обманываясь видимостью, исключая неожиданные последствия. Ум – прагматик, область его проявлений имеет четкие границы, причем довольно узкие. В конце концов, ум – это чисто логическая, а значит, бесконечно малая способность сознания, которая так или иначе всегда используется в обычных житейских отношениях и оттачивается в научных занятиях. (Противоположность – без-умие.)
Но в том-то и дело, что умение правильно отражать мир, вернее, тот или иной бесконечно малый кусочек мира в своем сознании, – это умение само по себе еще ничего не значит. Оно безразлично.
Интеллект всегда понимает свободу в форме необходимости. Он всегда пренебрегает присущей свободным действиям новизною и творчеством.
Бергсон. Творческая эволюция.
Главное – это отношение к миру, которое может сильно различаться при одном и том же отражении. Потому что, помимо умения мыслить системно, в человеческом сознании умещается еще одна способность – мыслить морально, эстетически, религиозно – творить отношение, – то, что раньше называли «высшим разумом». «В нас есть нечто поумнее головы», – говорит Шопенгауэр.
…Люди вообще еще мало знают о духовном уме, кроме только того, что он бесконечно выше и очень мало похож на то, что люди вообще называют умом.
Рамачарака. Раджа-йога.
Это и есть мудрость. Мудрость не отрицает ума, но надстраивается над ним; в той или иной степени она всем присуща, но мудрецом является лишь тот, кто, отбросив отношение к миру в духе самого этого мира, вернее, в духе системно осмысленного на сегодняшний день кусочка действительности, вырабатывает отношение, основанное на высшем разуме, который всегда противостоит преходящим господствующим односторонним нормам.
* * *
Пришло письмо из костромской деревни Опалихино:
«Дорогой мой Сергей, я получила ваше письмо и фотокарточки. Я очень довольна. Большое, большое вам спасибо за то, что вы меня не забыли. Я ваше письмо читаю со слезами почти каждый день. И смотрю на вашу фотографию. Я ведь не забыла вас.
Вот вы меня спрашиваете, как я живу. Я живу, веду жизнь одинокую и скудную. И родных у меня нет никого. Ну, благодарю Господа Бога, меня чужия-то все же посещают, да и Господь не забывает. Ну, болела полтора месяца, зимой-то. А сейчас чувствую полегче. Я хочу вас попросить о том, чтобы меня навестить, когда ни придется ли быть в Макарьеве. Я бы вам подарила Евангелие. Да прошу, дайте ответ мне, престарелому человеку. Мне ето очень радостно будет. Ф. Мокина».