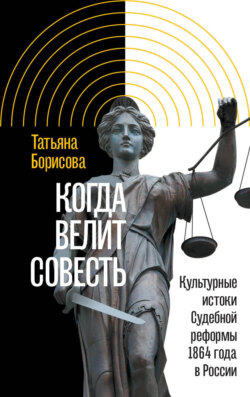Читать книгу Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Борисова - Страница 19
Часть I
От «судебной части» к «судебной власти»
Глава 2
Ревизор-постановщик И. С. Аксаков: закон versus совесть
Реальный суд и суд на сцене: контрасты
ОглавлениеЕсли сопоставлять ревизорские отчеты Аксакова о реальном суде в Астрахани и его пьесу о вымышленном суде, то в первую очередь можно заметить внешнюю качественную разницу между ними – контраст захолустья и «приличного» суда. Молодой правовед писал родным из Астрахани, что картины убогой провинциальной жизни напоминали ему строки из Гоголя. Не только бедность, плохая пища и скверные бытовые условия бросались в глаза молодому чиновнику. Особо он отмечал ничтожность и ограниченность интересов местных жителей:
Удивительно, право, как люди могут жить покойно и счастливо в такой глуши, безо всяких интересов, или с такими мелкими интересами, в такой грязной жизни, что жалко, просто жалко. …Нет уж, я в уездном городе ни жить, ни служить никогда не намерен215.
Возможно, такое неприятие провинциальной жизни у амбициозного правоведа Ивана Аксакова вызвал контраст с его прежней службой. До своего назначения в ревизорскую комиссию Гагарина он был занят в весьма амбициозном и новаторском проекте. Как чиновник Сената он принял участие в комиссии молодого реформатора Николая Милютина по составлению нового городового положения (было принято в 1846 году для столиц и Одессы)216, в котором отчетливо присутствовал реформаторский дух – новые представления об ответственном самостоятельном участии подданных в управлении217. Этот дух, казалось, был совершенно чужд тем реалиям, которые застал Аксаков в Астрахани. Даже модная круглая шляпа, которую он носил в столице, в глухой провинции выглядела нелепо, о чем Аксаков сообщал родным: из‑за того что носить ее было «неудобно», она была заменена на фуражку.
Тем примечательнее, что в «Судебных сценах» он изобразил совсем другую обстановку суда более высокой ступени – губернского – и не столь далеко расположенного от столицы. И Калужский губернский суд в 180 километрах от Москвы действительно мог стать прототипом суда из пьесы, так как жизнь в Калуге была не так далека от московских реалий и не похожа на уездную глушь. Прибыв туда в 1845 году, Аксаков даже обзавелся приличной для передового человека обстановкой. Так, в письме родным он сообщал, что приобрел у итальянца бюсты Шиллера, Гейне и Наполеона218. Суд в таком продвинутом месте тоже был вполне приличным, а не простодушно запущенным, как в далекой Астрахани. Что же он собой представлял?
Этот хорошо обустроенный суд кардинально отличался от стесненного и беспорядочного судебного пространства в Астрахани. В специальном разделе «Внешнее устройство суда» своего ревизорского отчета Аксаков указывал на следующие нарушения закона в Уездном суде:
Комната присутствия так тесна, что в ней не устанавливается стол для протоколиста, как предписывается 49 ст. 2 тома Учрежд. Губерний издания 1842 г. Отдельной прихожей нет, но вход с лестницы прямо в комнату, где помещается гражданское Отделение канцелярии. Столы в канцелярии не только не покрыты сукном, но не имеют даже замков на ящиках, в противность 65 ст. 2 тома Свода законов219.
Напротив, в пьесе устами основных героев Аксаков несколько раз подчеркивал, как хорошо устроено присутственное место – «чисто и опрятно». Аккуратность и внешний порядок присутствовали и в бумагах суда, о чем не без удовольствия говорил председатель суда. Из его слов следовало, что и у министра, и у губернатора его уголовная палата на хорошем счету. Вслед за председателем и сами заседатели благодушно считали, что служат «честно».
Эту так называемую честность подчеркивал Аксаков, когда писал во введении к пьесе, что стремился изобразить не вопиющие злодейства, а обыкновенную жизнь суда, которая может показаться зрителям только «смешной и пошлой». Поэтому в пьесе «выставлены даже не взяточники, а люди „честные“ и даже добрые», готовые принять и простить
грехи, которые чествуются «грешками»; те пороки, которые извиняются легко, уживаются с снисходительною совестью, живут рядом с хорошими свойствами души, принимают даже какую-то вполне искреннюю, добродушную физиономию, убаюкивают самое сознание какою-то особенною простосердечною логикою220.
Простосердечное беззаконие Аксаков встретил впервые именно в убогих астраханских судах. Приступив к своим обязанностям со всей серьезностью, молодой правовед был поражен наивной безответственностью чиновников ревизуемых учреждений221. В письме родным 22 января 1844 года он писал, что в судебных учреждениях наиболее возмутительными являются не убогость понятий о законах и беспорядок в делах, а несознательность чиновников:
В здешнем суде нашли мы такое наивное невежество законов и служебного порядка, что члены «оного» не только не умели приготовиться к прибытию ревизора, но даже и в оправдание свое приводят то, чего не скажет и последний писарь в сенате. Видно они воображали, что земский суд такое место, которому сам бог покровительствует, а городок их такой городок, от которого хоть три ночи скачи, ни до какого государства не доскачешь222.
Как должны были подготовиться к ревизии чиновники? Их отчетные документы и разные книги учета движения дел должны были быть в порядке – именно на них концентрировали внимание проверяющие. Это было известной практикой, поскольку начиная с 1722 года сенаторские ревизии стали важным элементом контроля правильности исполнения законов чиновниками на местах223.
Сенаторская ревизия П. П. Гагарина отличалась явной воспитательно-исправительной задачей, чем она и импонировала правоведу Аксакову. Он с гордостью писал, что комиссия Гагарина работала не только с отчетными документами, как другие ревизии. Напротив, прямо в присутственном месте поднимались все текущие «дела, бумаги, производства за три года»224. Польза от подобных действий виделась Аксакову в том, что местные чиновники сразу могли понять, как исправить свои упущения, а сенатор получал данные о том, где требуется изменение закона. Именно так, в представлении правоведов, должно было осуществляться правильное принуждение к исполнению законов и исправлению нарушений. Исследовавший карьерные траектории правоведов Р. Уортман отмечал, что ревизии были единственным служебным занятием, которое приносило выпускникам Училища удовлетворение225. Как мы видим на примере Аксакова, причины этого ясны: правоведы получали возможность реализовать свою миссию и восстановить законный порядок, возвысив закон и «правду». Современные Аксакову практики ревизоров противопоставлялись негласной деятельности политической полиции, также следившей за законностью и порядком со времени учреждения Третьего отделения в 1826 году226.
Но энтузиазм и серьезность ревизоров натолкнулись на «пренаивные», как писал Аксаков, отговорки проверяемых чиновников. Они как будто ничего и не стыдились и всему находили простые оправдания. Чаще всего ревизор фиксировал в своем отчете, что чиновники перекладывали ответственность за нарушения на своих уже отсутствующих коллег. Так, в уездном суде козлом отпущения оказался столоначальник Никитин: «Все беспорядки за прежнее время приписывают они бывшему столоначальнику Никитину, отданному за дурное поведение в солдаты»227. Этого же Никитина вспомнили сослуживцы и тогда, когда Аксаков обнаружил отсутствие дел в архиве уездного суда:
Причины тому настоящим членам не известны, а всему виною поставляются: прежняя беспорядочность дел и беспечность столоначальников, из коих один, Никитин, отдан в солдаты228.
В земском суде виноватым во всех нарушениях оказывался умерший столоначальник Федоров, причем нелепость229 такой безответственности Аксаков передавал закавыченной им прямой речью членов суда:
дело… оказалось вовсе не доложенным присутствию, что земский суд приписывает вине бывшего столоначальника Федотова, «который, заложив оное в решенные дела, впал в болезнь и умер»230.
В целом в отчете Аксакова сотрудники земского суда и стоящего над ним уездного суда представляли собой самое жалкое зрелище. Низший земский суд особенно поразил молодого столичного правоведа. В заключение своего отчета о ревизии он писал:
Недостаток участия к службе, плохое знание законов, непонимание важности своих обязанностей делают членов Земского суда совершенно к должности приставов не способными. Что касается до исправника, то хотя у него есть много усердия, и он более всех работает, но ряд несчастий поразивших Земский суд, в лице столоначальников Кумакова, Федотова и Федорова, не сдавших свои дела, пьяные канцелярские служители, оставление архива без разбора, чрезвычайно затрудняют его и запутывают более и более, несмотря на прилежное сотрудничество непременного члена Шарапова. Почему я полагал бы назначить комиссию для приведения старых дел в порядок. И частыми ревизиями и строгим наблюдением содержать ведение книг и отчетности по делопроизводству в порядке231.
Если для устранения недостатков в работе низшего суда Аксаков полагал достаточной мерой усиление мер контроля, то для более высокой инстанции, уездного суда, требовались иные меры. Проблемы уездного суда были также связаны с кадрами, но тут исправить ситуацию одними проверками было невозможно. Так, например, судья Копытовский был вполне готов к проверкам. Аксаков констатировал, что судья
радеет не для общей пользы в делах службы, нежели о собственной чистке. Для чего часто недобросовестно отсылает он такие дела назад, которые необходимо должны были быть приняты, и это потому что б к концу года можно было показать меньшее число нумеров. В этом он сам мне сознавался и письменно, и словесно232.
Все остальные судебные чиновники, за редким исключением, по разным причинам не были способны к исполнению возложенных на них обязанностей. Судебные заседатели от сословий,
как люди не опытные и не знающие, подчинены влиянию судьи. Секретарь человек молодой с малыми способностями и совершенно не сведущий. …Столоначальник гражданский Алексеев человек способный и усердный, но он, будучи один и не имея способного писца, мало успевает. Должность уголовного столоначальника остается пока праздной, заменить его некем. Писцы же большею частью нетрезвого поведения, совершенно безграмотны и ленивы. Ни один из них не годится в помощники столоначальникам233.
Совсем другой вид имел суд в воображаемой губернской уголовной палате в пьесе. В нем как будто целенаправленно драматургом Аксаковым были исправлены все недостатки судопроизводства, вскрытые ревизором Аксаковым в далеких астраханских судах. Никто из судебных служителей не показан пьяным или неспособным к службе. Дела идут настолько хорошо, что председатель не стесняется поделиться с коллегами фантазией о том, что сам император мог бы посетить палату. К его возможному визиту нужно только подновить портрет в соответствии с изменениями царской наружности – подрисовать монарху усы.
Аксаков показывал, что порядок в Палате был результатом постоянных забот хорошего и сведущего секретаря, которого как раз не было в суде в Астрахани. Можно сказать, что секретарь в «Судебных сценах» – настоящий мотор работы судебной палаты, по сути, воплощенный замысел Сперанского: знающий Свод и благовоспитанный делопроизводитель-правовед направляет в правильное русло решения малосведущих судей. Именно так, на первый взгляд, и работает суд в пьесе Аксакова.
Композиционно пьеса построена вокруг работы судей в присутствии, которая начинается тогда, когда во втором действии приехавший первым судья переодевается в судейский мундир. В последнем явлении все судьи, снова переодевшись, покидают суд. Но еще до того, как судьи пожалуют в суд и облачатся в мундиры, в первом явлении драматург показывает зрителями настоящие ключевые фигуры судебного процесса, без которых судопроизводства не было бы. Это секретарь, который готовит все решения суда и ведет его работу, и арестанты, приведенные для оглашения приговора еще утром и ожидающие своей участи. «Три человека, да две женщины, одна с ребенком», – докладывает секретарю вахмистр. Все дальнейшее действие происходит на фоне ожидания арестантов, приговоры им будут оглашены только в конце пьесы. Секретарь, студент юридического факультета, который готовит все приговоры и вписывает наказания карандашом, не без сочувствия говорит приведшему арестантов вахмистру: «Ну, пусть ждут, делать нечего…»234.
Приговоры, подготовленные секретарем, не могли выноситься без заседателей от дворян и купцов, возглавляемых председателем. Со второго действия они по очереди появляются на сцене, переодеваются в мундиры и начинают свою работу, заключающуюся в том, чтобы подписывать подготовленные приговоры и заполнять журналы. Рутинные разговоры прерываются неожиданным визитом помещика Жомова, дело которого должен решить суд.
215
Аксаков И. С. – родным, 22 января 1844 // Аксаков И. С. Письма к родным, 1844–1849 / Сост. Т. Ф. Пирожкова. М., 1988. С. 18.
216
Аксаков Иван Сергеевич. Материалы для летописи жизни и творчества. 1823–1848. Вып. 1. 1823–1848. Ч. 2 / Под ред. С. В. Мотина. Уфа, 2010. С. 6.
217
Lincoln W. B. Nikolai Miliutin, an enlightened Russian Bureaucrat. New York, 1977. P. 22–28.
218
Аксаков И. С. – родным, 5 октября 1846 // Аксаков И. С. Письма к родным, 1844–1849. С. 322.
219
ОР ИРЛИ Ф. 3. Оп. 5. Д. 3. Л. 4–4 об.
220
Судебные сцены. С. 6.
221
В литературе представлены исследования на основе отчетов сенаторских ревизий, которые используются исследователями как источники о реалиях местного управления. См., например: Ефимова В. В. Ревизия сенатора Д. О. Баранова как источник по изучению состояния государственного управления в Олонецкой губернии во второй половине XIX века // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия «Общественные и гуманитарные науки». 2008. № 2 (93). С. 10–23.
222
Аксаков И. С. – родным, 22 января 1844 // Аксаков И. С. Письма к родным, 1844–1849. С. 18.
223
Соколов Д. В. Эволюция сенаторских ревизий в период 1722–1917 гг. // Новый ракурс. 2017. № 2. С. 123–133.
224
Аксаков И. С. – родным, 7 апреля 1844 // Аксаков И. С. Письма к родным, 1844–1849. С. 64.
225
Уортман Р. Властители и судии. С. 366.
226
Бикташева А. Н. Местное управление в России в первой четверти XIX века (по материалам сенаторских ревизий) // Ученые записки Казанского университета. Серия «Гуманитарные науки». 2016. № 3. С. 696. См. емкий обзор литературы об участии III отделения в негласном дисциплинировании администрации, в том числе применительно к судебной власти: Бибиков Г. Н. Надзор III отделения за частной жизнью губернских чиновников (1820–1830‑е гг.) // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2019. Т. III. № 2. С. 79–108.
227
ОР ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 3. Л. 5 об.
228
Там же. Л. 7.
229
Практика перекладывания вины за должностные преступления на уже умерших канцелярских служащих была вполне обычной в первой половине XIX века. См.: Плех О. А. Должностные преступления и наказания в первой половине XIX в. // Вопросы истории. 2016. № 2. С. 53–68.
230
Там же. Л. 9 об.
231
Там же. Л. 15.
232
ОР ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 3. Л. 21 об.
233
Там же. Л. 21–21 об.
234
Судебные сцены. С. 9.