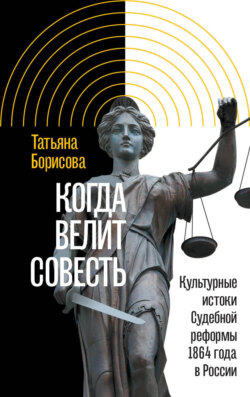Читать книгу Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Борисова - Страница 23
Часть I
От «судебной части» к «судебной власти»
Глава 2
Ревизор-постановщик И. С. Аксаков: закон versus совесть
«Благородный чиновник, подлый чиновник»
ОглавлениеПо окончании ревизии Аксаков вернулся к своей прежней службе в московский Сенат. И тут его ждала интересная перемена ролей. В письме товарищу-правоведу Ф. А. Бюлеру он с негодованием писал, что в преддверии ревизии из Санкт-Петербурга его работа в присутствии стала невыносимой. На Аксакова возложили бессмысленную работу – «очковтирательство» столичному ревизору (на что не хотели тратить время даже осуждаемые им астраханские чиновники). Будни Аксакова теперь были заняты совершенно бессодержательным заполнением пустого места в бумагах:
«У нас в настольных реестрах слишком много белого места, надо исписать, непременно исписать, а то министр подумает, что мы ничего не делаем»… – говорит мне вчера ст<атский> сов<етник>, двора его и<мператорского> в<еличества> камергер, состоящий за обер-прокурорским столом Ханыков, глупое полено258.
Из других писем Аксакова видно, что вызывавшая раздражение сенатская нервотрепка по поводу предстоящей ревизии отвлекала его от поэтических трудов. Стихи Ивана Аксакова, до того известные лишь людям его круга, с начала 1845 года стали публиковаться259. Аксаков снискал похвалу Н. В. Гоголя, который с одобрением отозвался о гражданском пафосе молодого поэта: «В юноше виден талант решительный, стремление приспособить поэзию к делу и к законному влиянию на текущие современные события»260.
Этот отзыв Гоголь дал на стихотворение Аксакова, заканчивающееся словами горького сожаления о том, что исполнение гражданской мечты недоступно для его современников:
А сколько прежде поколений
Ждет вновь неправедность судьбы,
И бремя тяжкое стремлений,
И оскорбительность явлений,
И безутешныя борьбы!261 (Курсив мой. – Т. Б.)
Отметим «оскорбительность явлений» как важное понятие для понимания мотивации Аксакова как чиновника-правоведа. Чрезвычайно деятельный идеалист, как впоследствии охарактеризует его супруга, Аксаков всерьез воспринял воспитательные задачи отечественного «правоведения». По мысли Сперанского, в отличие от отвлеченной юриспруденции, русский аналог этого понятия – «правоведение» – подразумевал возвышение закона в практике судов, то есть последовательное правоприменение.
Аксаков стал самым ревностным исполнителем этой идеи. Письма родным молодого чиновника пестрели упоминаниями о систематическом изучении Свода законов и успехах его применения во время ревизии и в дальнейшей судебной деятельности. Протекции именно по судебной линии стал просить Аксаков у товарищей-правоведов, когда разочаровался в своей сенатской «бумажной» службе. Благодаря их помощи в 1847 году Аксаков получил назначение в Калужскую уголовную палату.
Но реалии судопроизводства, убогость и «животная жизнь» служителей закона как в провинции, так и в столицах постепенно лишали Аксакова надежды, рожденной в стенах Училища правоведения. В письмах наиболее близким однокашникам он откровенно говорил о том, что изменил взгляды на суть службы и должен переменить вектор своего служения. От следования букве закона он решил отойти, чтобы руководствоваться лишь голосом совести. Еще со времен написания своего дипломного сочинения в Училище правоведения Аксаков подчеркивал значение нравственного закона, нарушение которого «оскорбляло общественное сознание и чувство правосудия граждан»262. Поэтому суд в сознании юного правоведа был «объективной силой» правосудия, защитником «общественной безопасности», который мог судить за преступления, неизвестные закону.
Эти взгляды Аксакова опирались на поэтические представления о праве и справедливости любимых им еще с юности немецких поэтов-романтиков Гейне, Шиллера и Гете, чьи лирические герои смело вступали в бой с несправедливостью, даже если она была освящена авторитетом закона. Воздействие бунтарского потенциала немецкого романтизма пытались пресечь в России разного рода запретами. Пьесы Шиллера не пропускались театральной цензурой263, а в Училище правоведения преподавателю немецкой словесности было запрещено упоминать о «Фаусте» Гете, о чем вспоминали И. С. Аксаков и К. П. Победоносцев в переписке264. Однако запретный плод, как известно, гораздо слаще: вдохновленный поэтической доктриной Шиллера «восстановления человека в его неотъемлемых правах» (Wiederherstellung des Menschen In seine unverlierbaren Rechte)265, Аксаков хотел действовать.
В письме своему товарищу Д. А. Оболенскому он писал:
Я решительно убеждаюсь, что на службе можно приносить только две пользы: 1) отрицательную, т. е. не брать взятки, 2) частную, и только тогда, когда позволишь себе нарушить закон. Что проку, что закон соблюдается, когда это соблюдение закона не уничтожает зла, не вознаграждает невинность266.
Месяцем позже, отвергая предложение некогда желанной прокурорской должности, он разъяснял другу Бюлеру:
…мои политические мнения получили другое направление, которому я всегда, впрочем, сочувствовал. И я не хочу принадлежать правительству, т. е. тому, от чего терпит Россия267.
Общую пользу Аксаков видел теперь только в общественной деятельности, направленной на изменение системы. В этом намерении его окрыляло поощрение Гоголя. Молодой Аксаков готов был «вооружаться» всеми своими талантами, чтобы, говоря словами Гоголя, «законно влиять на текущие современные события». Ревностная служба закону привела правоведа-Аксакова к необходимости пересмотреть роль образованного класса. Теперь он хотел не только утверждать законный порядок, но и «законно влиять» на настоящее. Так, освободившись от честолюбивых карьерных мечтаний, Аксаков направил свое внимание на более правильные, с его точки зрения, пути достижения позитивных изменений.
Аксаков надеялся, что в должности председателя Калужской уголовной палаты у него будет больше времени на литературную деятельность, а также что в скором времени он сможет выйти в отставку. Однако, будучи человеком ответственным, он самым активным образом включился в работу Уголовной палаты, хоть и не оставил идею покинуть службу. С большим удовольствием отмечал Аксаков в письмах к родным в 1847 году, как достойно он вел себя перед лицом надвигающейся ревизии столичного сенатора. В отличие от перетрусившего председателя Калужской уголовной палаты, ленивого картежника, Аксаков держался уверенно и не делал никаких распоряжений перед ревизией. В письмах родным он писал, что не боится ревизии, потому что «разрешение дел производится мною самым добросовестным образом и между тем довольно быстро. …часто приходится из пяти или шести томов (Свода законов. – Т. Б.) выбирать статьи для какого-нибудь незначительного решения»268.
Даже презирая службу как таковую, называя ее «подлой», правовед Аксаков продолжал быть идеальным чиновником, в руках которого пятнадцатитомный Свод законов был средством утверждения законного порядка. Он с удовольствием отмечал, что новое Уголовное уложение, несмотря на тяжеловесность языка, позволяет судье выносить более справедливые решения. Оно требует от судей гораздо большей ответственности:
Наказания очень строги, но зато судья имеет право принимать в соображение даже нравственные побуждения преступника, как то: бедность, сильное оскорбление и множество других. Конечно, это подает повод к большим злоупотреблениям. Между тем, как я рад этому, ибо звание судьи возвышается, от него требуется глубокое понимание человека, он не простой исполнитель буквы, по духу этих законов ему дается довольно большое поприще для толкования обстоятельств, – вероятно, другой плут, уездный судья, начнет делать такие толкования и рассуждения, что невольно пожалеешь о данном ему произволе269.
Осознавая собственное профессиональное превосходство и высокий уровень нравственных притязаний, столичный правовед с нескрываемым презрением относился к уездным судьям в Астрахани и судебным служителям в Калуге. Вполне вероятно, они заслужили это в том числе и своей неприемлемой для Аксакова безответственностью. В письмах родным он постоянно жаловался на то, как его коллеги по Калужской уголовной палате уклоняются от действий и решений. Так же как в Астрахани, калужские чиновники не только плохо знали законы, но даже не стремились их узнать. Они проявляли неуместные, по мнению Аксакова, неторопливость и мягкость270 и довольствовались умением составлять отчетные документы о своей деятельности. В итоге местные суды, в том виде, как это было представлено в их отчетах, частично соответствовали требованиям закона. Для центральных властей вполне умело создавалось впечатление, будто чиновники на местах в целом знают и исполняют закон.
В своей пьесе Аксаков показывал, что за преступным уклонением от настоящих решений стоит некая «вековая мудрость», которую он стремился разоблачить. От ее лица выступал Семен Иванович Посошков, герой с говорящей фамилией, 57 лет, из военных, который уже 17 лет служил заседателем. С ним спорил дворянин следующего поколения – годящийся ему в сыновья 30-летний Алексей Александрович Жабин, отставной капитан, одетый по последней моде. (При этом оба они, в свете рассматривавшейся в первой главе записки Сперанского о преобладании военного начала над гражданским в управлении, были представителями как раз военного начала.) Почему старшего из них, человека «старого покроя», Аксаков назвал Посошковым?
В сочинении «О скудости и богатстве» (1724) Иван Тихонович Посошков настаивал, что над судом людским стоит суд Божий. Понимание собственной греховной природы должно удерживать судей от слишком жестоких приговоров. В пьесе Аксакова эта мысль в устах персонажей выхолащивалась до якобы богоугодного уклонения от своего решения по делу под предлогом, что от них «ничего не зависит». Так, опытный заседатель Посошков советовал молодому и амбициозному дворянскому заседателю Жабину больше доверять системе и подписывать приговоры не читая:
…делайте, как я, батюшка Алексей Александрович, оно и для совести-то спокойнее, ей Богу! Ведь, по правде сказать, что толку, что вы прочтете приговор или нет? дела же вы все-таки читать не станете? (Курсив мой. – Т. Б.)271
«Добродушный» призыв уклоняться от решений, чтобы совести было «спокойнее», – мастерски переданная Аксаковым боль российского правосудия. Извращенное представление о совести судейских, которое автор хотел продемонстрировать публике, было поистине ошеломляющим. Чтобы представить все лицемерие недостойных судей, он вкладывал в уста молодого Жабина пафосный протест: дескать, так может пострадать правосудие. На это Посошков доводил до крайности доводы своего знаменитого прототипа, говоря, что правосудие само по себе, а уголовная палата – сама по себе. По этой логике помещик может своей волей судить своих крестьян, ведь от порядка в поместье зависит благосостояние помещика. Они – первая забота помещиков. В государственном же суде справедливость – дело корпоративное:
…а где дело-то поважнее, там и секретарь смотрит в оба! Ведь коли нас станут судить, так и он не отвертится… Да и то вы в расчет возьмите, ведь ваши решения просматривает Прокурор и Губернатор; за неправое решение кто отвечает? Не мы одни, и они также… У нас оттого и заведение такое, коли Прокурору что в решении не нравится, или Губернатору, так мы домашним образом и переправляем дело. Что его в Сенат-то таскать! Зато уж если все промахнемся, или дело решим криво, так уж все молчок, друг друга не выдадим, все шито да крыто, дело-то ведь общее, батюшка Алексей Александрович272.
В конце опытный судебный заседатель Семен Иванович подчеркивал буквальное понимание богоустроенного порядка, радикально заостряя воззрения реального Посошкова:
все (вздыхая) Богом держится. …Нам за нижними инстанциями, да за губернатором, да за прокурором, да за секретарем знающим хорошо жить, ей-Богу, хорошо!273
Жабин, который более других судей говорил по-французски и вообще мнил себя человеком цивилизованным, в итоге согласился с Посошковым: нужно жить со всеми, как принято, – «по-приятельски, потому что все под Богом ходим»274.
Тем приятнее заседателям было обнаружить дворянскую солидарность и принципиальную позицию по делу Жомова, в котором все судьи от дворянства выступили однозначно против доводов секретаря. Тот разъяснял им, что по закону Жомов может быть признан виновным в разных преступлениях, если суд примет в качестве доказательств против него свидетельства его крепостных. Сама идея учесть такие свидетельства возмутила всех судей, кроме судьи от купечества, который в обсуждении не участвовал.
В итоге этого обсуждения недавно разглагольствовавший о высокой миссии правосудия Жабин с тем же пафосом напоминал коллегам, что суд является правительственной властью в губернии и «в видах правительства поддерживать власть помещика и звание дворянина»275. Поэтому обвинить Жомова означало бы противоречить политике правительства. По сути, восторжествовало практическое понимание корпоративного правосудия, в котором дворянские интересы помещиков Дракиных и Расплюевых защищали дворяне на служебных должностях. При этом наибольшее возмущение Аксакова вызывали лицемерные суждения заседателей о богоугодном порядке, учрежденном правительством «по совести», когда начальству всегда «виднее».
При таком понимании судьями своей роли приговоры были канцелярским делом, искусством правильного составления бумаг. Посулы и подарки за нужные решения «по-приятельски» тоже не были редкостью и, как пишет историк Д. В. Тимофеев, часто привлекали на выборные должности соответствующих представителей дворянства, заставляя других, достойных, уклоняться от таких должностей276.
Несмотря на то что Аксаков не хотел служить и отвергал увещевания старшего брата-правоведа Григория дождаться возможности изменить ситуацию, со службы он ушел не по своему желанию. Его принудили к увольнению те самые доносы, которые он так горячо приветствовал в своем дипломном сочинении.
258
И. С. Аксаков – Ф. А. Бюлеру, 26 апреля 1845 г. // Письма И. С. Аксакова к Ф. А. Бюлеру. С. 181–192, 183–184.
259
И. А. Христофор Колумб с приятелями // Москвитянин. 1845. № 2.
260
Цит. по: Анненкова Е. И. Гоголь и Иван Аксаков: «беспрерывная внутренняя переработка» как фактор творчества // Гоголь и пути развития русской литературы: Сборник научных статей по материалам Международной научной конференции. К 200-летию И. С. Тургенева. Восемнадцатые Гоголевские чтения, Москва, 01–03 апреля 2018 года / Ред. В. П. Викулова. М., 2019. С. 60–68.
261
Аксаков И. С. Среди удобных и ленивых (7 февраля 1845) // Московский литературный и ученый сборник. М., 1846. С. 216.
262
См. главу 1.
263
Harder H.‑B. Schiller in Rußland: Materialen zu einer Wirkungsgechichte, 1789–1814. Bad; Homburg; Berlin; Zürich, 1969. S. 54–56.
264
Дмитриев А. П. Семья Аксаковых: литературное наследие и гражданская позиция: из архивных разысканий. СПб., 2023. С. 47.
265
Цит. по: Haney G. Recht und Gerechtigkeit bei Schiller // Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy. 2005. V. 91. № 3. S. 314. О влиянии философии права Шиллера на социально-политическую философию современности см.: Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / Пер. с нем. М., 2003. С. 32–37.
266
Иван Сергеевич Аксаков в его письмах: Эпистолярный дневник 1838–1886 гг. Т. I. М., 2003. С. 189.
267
И. С. Аксаков – Ф. А. Бюлеру, 21 мая 1845 г. // Письма И. С. Аксакова к Ф. А. Бюлеру. С. 185–186.
268
И. С. Аксаков – родным, 21 сентября 1846 г. // Аксаков И. С. Письма к родным, 1844–1849. С. 311.
269
Аксаков И. С. – родным, 30 октября 1845 г. // Там же. С. 224.
270
На мягкость некоторых наказаний в астраханской губернской палате Аксаков сетовал в письме родным: «…когда я при ревизии палаты замечал ему эту необыкновенную слабость в наказаниях, то он (председатель. – Т. Б.) отвечал, что строгими мерами и сильными наказаниями нельзя улучшить света и что он поэтому держится этой системы» (27–28 мая 1844 // Аксаков И. С. Там же. С. 91–94).
271
Судебные сцены. С. 19.
272
Там же. С. 22.
273
Там же. С. 23.
274
Там же.
275
Там же. С. 50.
276
Тимофеев Д. В. В борьбе за голос благородного дворянина: электоральные практики в России на рубеже XVIII – первой четверти XIX в. // Петербургский исторический журнал. 2017. Т. 16. № 4. С. 45–57.