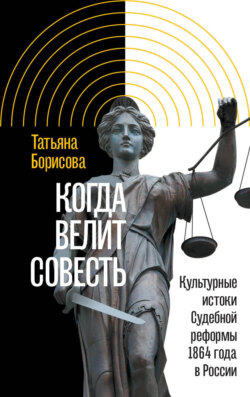Читать книгу Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Борисова - Страница 21
Часть I
От «судебной части» к «судебной власти»
Глава 2
Ревизор-постановщик И. С. Аксаков: закон versus совесть
Дворянская честь против закона?
ОглавлениеНеудовлетворительное состояние судов было частью общей картины многочисленных нарушений, которые ревизия вскрывала не без труда. В своих письмах из Астрахани Аксаков рассказывал о противодействии ревизии со стороны губернской власти, которое удалось преодолеть только тогда, когда сенатор Гагарин употребил все силы, чтобы решением в столице сняли местного губернатора И. С. Тимирязева. Аксаков писал, что после этого местные начальники перестали противиться ревизорам, потому как «столп», вокруг которого все стояли, удалось сокрушить.
Круговая порука местных руководителей перед лицом столичного начальства стала объектом обличения в художественной и публицистической литературе, начиная со знаменитого «Ревизора». Но то, что увидел Аксаков, поразило его тем спокойствием и наивным самооправданием, с которым чиновники объясняли, почему их действия расходятся с требованиями закона. Аксакову казалось, что чиновники находили свой местный порядок вполне удобным и не боялись наказаний из‑за убогости интересов.
Если Гоголь указал на уверенность провинциальных начальников в своих силах как на явное общественное зло, то Салтыков-Щедрин, хорошо знакомый с реалиями провинциальной службы, пытался объяснить ее как явление системное. В сатирическом очерке «Завещание моим детям» 1865 года он описывал устои местной круговой поруки в выражениях, используемых традиционно для показа примеров чести и воинской доблести. Сравнивая геройства дворян, проявляемые ими в круговой поруке, с подвигами на поле брани, он высмеивал ложный пафос дворянской чести и верной службы престолу. Что характерно, Щедрин считал, что большинство случаев подобного сговора происходило в случаях преступлений против крестьян («Кто без греха…»). Вот как Щедрин показывал организацию коллективной «взаимовыручки» вокруг дворянского преступления:
Проштрафится, бывало, Дракин – сейчас к Расплюеву.
– Так и так – беда!
– Опять изувечил?
– И всего-то одну плюху… не понимаю даже, что с ним случилось: как закатился!
– Ладно.
Едет Расплюев к Хлобыстовскому, от Хлобыстовского к другому Дракину, от другого Дракина к Гвоздилову, всем говорит: так и так. Посудят, порядят между собой и определят: стоять. Сейчас наведут это на них пушку – стоят. Пустят врассыпную картечью – стоят. Науськают шавок таких, что и в уши, и в нос, и в глаза вцепятся, – стоят. На все про все один ответ: знать не знаем, ведать не ведаем, а должно полагать, случилось с ним это от нетрезвой жизни241.
Дальше Щедрин разъяснял, что взаимная преданность основывалась не только на родственных связях, но и на понимании «общих слабостей»:
Все мы были люди, все человеки, все чувствовали свои слабости. Если виноват Хлобыстовский, виноват Расплюев, виноват Гвоздилов – могут ли они друг перед другом нос задирать? Ну, и выходила у нас тут дисциплина… настоящая, естественная, так сказать, дисциплина. …Большею частью тем и оканчивалось, что пошумят, пошумят между собой (дворяне. – Т. Б.), а потом и определят: стоять! А почему стоять? а потому, государи мои, что тронь из нас одного, куда ж бы девались все прочие? Ну, и опять наводят пушки, опять напускают шавок – не шелохнемся, все как один! Что ж бомбардиры-то наши? а вот что: попалят, попалят, увидят, что втуне, – и разойдутся242.
В пьесе Аксакова мы видим такую же историю: преступное поведение в отношении женщин неблагородного происхождения и жестокие наказания крестьян воспринимались в уголовной палате как понятная слабость. Судить за такое было неприлично, и, как утверждал Жомов, только бесчестные, корыстные судьи низкого происхождения могли дать ход таким делам. И именно от них, от таких «шавок» защищали друг друга люди чести, дворяне243.
Честь дворян как этическая основа порядка вообще и правильного судопроизводства в частности244 стала отчетливо проблематизироваться с начала XIX века245. Уже упоминавшийся в первой главе судебный деятель николаевского времени М. А. Дмитриев подчеркивал, что только обеспеченное потомственное дворянство с традициями чести могло быть опорой справедливого правосудия. В этом его убеждал опыт собственной семьи. В своих мемуарах «человеком непоколебимой справедливости» он называл деда – богатого сызранского помещика екатерининского времени, любившего выезжать в город в сопровождении небольшой свиты246.
По делам своих имений дед Дмитриева был прекрасно осведомлен в законах о межевании, «а будучи богат, он никого не боялся и потому, при разговоре о делах, был гроза сызранских судей». Убогие познания в законах местных судей и их недостойное поведение мемуарист передавал в двух семейных анекдотах. В одном дед стыдил сызранского судью за то, что тот законы не читал: «Ох, пробовал читать, батюшка! – отвечал судья. – Ну и что же? – Хуже выходит!»
Вторая история о справедливом деде обличала хозяев продажных судей – сутяг-дворян, незаконно отсуживавших землю у малосильных соседей. Когда хитрый и корыстолюбивый дворянин Василий Борисович Бестужев попытался незаконно «оттянуть судом землицы» у деда Дмитриева, тот сделал публичное заявление. Когда в гостях зашла речь об их тяжбе, дед Дмитриев прямо сказал Бестужеву, что не даст ему отсудить свою землю, но готов переписать ее на Бестужева, если тот при всех признает, что тяжба незаконна. Жадный Бестужев после некоторых колебаний сделал это, и дед исполнил свое обещание. Далее Дмитриев с удовольствием описывал, что с тех пор сутяга Бестужев перестал существовать для деда. Даже когда Бестужев бывал в доме деда по случаю приезда его сына, с которым Бестужев вместе служил в гвардии, хозяин вообще с ним не разговаривал, намеренно игнорируя его.
Приведенная семейная история является свидетельством не только болезненного самолюбия богатого старика. Сам Дмитриев-внук видел в поступках деда проявление справедливости и чести, свойственных лучшим представителям дворянского сословия. Но есть в ней и ценное, не отрефлексированное Дмитриевым-внуком общее место: небогатые, не обладающие честью судьи, пусть даже и дворяне, не могли обеспечить правильный ход правосудия.
В целом в николаевское время отчетливо прослеживается тенденция романтизировать дворянство, которое в качестве морального авторитета и чести нации было способно деятельно участвовать в жизни страны. Свидетельство этому мы можем найти, например, в стихах графини Евдокии Ростопчиной. И в заметках А. С. Пушкина «О дворянстве» (1830) речь идет об особых правах российского дворянства – праве собственности и праве «частной свободы». Право «частной свободы» было следствием права собственности и поэтому накладывало некоторые обязательства. Пушкин считал, что, поскольку дворянство богато, оно может не трудиться, посвящая свое время защите народа. Но для этого дворянство обязано быть просвещенным и учиться «независимости, храбрости, благородству (чести вообще)». Признавая, что эти «качества природные», то есть принадлежат всем людям вне зависимости от социального статуса, Пушкин указывал на то, что «трудолюбивому классу» развивать их некогда247.
Непросвещенные, хоть и богатые дворяне – сутяга Бестужев, взявший продажных судей на содержание в Сызранском уезде, и изображенный Пушкиным в «Дубровском» помещик Троекуров – люди без чести, а потому они не могли стать защитниками народа. На их фоне декабристы пытались делом утверждать другую модель честной достойной службы, в том числе и на судейских должностях, совсем не престижных.
О новаторстве такого социального эксперимента говорит яркий эпизод из воспоминаний декабриста Пущина. Осуществляя собственным примером идейную программу перерождения государства, красавец аристократ Пущин сменил свой конно-артиллерийский мундир на гораздо более скромный мундир надворного судьи248. В нем в 1824 году на балу московского генерал-губернатора Голицына он танцевал с губернаторской дочерью. Увидев эту картину, московский «туз» князь Юсупов не смог скрыть своего изумления: «Как! Надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь небывалая, тут кроется что-то необыкновенное!»249 Обратим внимание на слово «кроется». Действительно, декабристы действовали с умыслом, и когда умысел проявился во время бунта, то «необыкновенные» танцы прекратились.
Яркий эпизод с танцем губернаторской дочери и надворного судьи наглядно показывает, что суд в николаевское время был местом, где достойным людям было находиться зазорно. Неслучайно в пьесе Аксакова рассуждающий о справедливости дворянский заседатель Жабин сетовал на то, что бумаги судебных дел написаны отвратительными почерками: это подчеркивало контраст его благородных намерений и дикости канцелярских судебных порядков. Общим местом было представление, что в суде правят канцелярские крючки и корыстные заседатели от сословий, решающие судьбы людей с возмутительной безответственностью. Именно ее Аксаков-драматург стремился показать, используя в своей пьесе важный лейтмотив: вся болтовня заседателей и их механическое подписывание приговоров проходят на фоне арестантов-крестьян, в течение целого дня ждущих решения своей судьбы.
241
Салтыков-Щедрин М. Е. Завещание моим детям // Собрание сочинений: В 20 т. М., 1965–1977. Т. 7. С. 18–19.
242
Там же.
243
Микроисторические исследования показывают, что в реальном судопроизводстве вполне присутствовала отмеченная Салтыковым-Щедриным и Аксаковым дворянская круговая порука. При этом если убивший дворянина крестьянин действовал как пешка в дворянской игре против соседа-дворянина, то такой крестьянин-убийца мог избежать наказания по решению дворянских судей. См.: Кошелева О. Е. Убийство поручика Ланского: перипетии судебного следствия (1722–1725 гг.) // История государства и права. 2017. № 24. С. 26–33.
244
См. об этом: Коллманн Н. Преступление и наказание в России раннего Нового времени / Пер. с англ. М., 2016; Акельев Е. «Поверенные на срок к суду встали…»: практика дворянских судебных разбирательств в Центральной России 1730–1760‑х годов (по материалам Московского судного приказа) // Культура и быт дворянства в провинциальной России XVIII века: В 4 т. М., 2022. Т. 4: «Ревнуя ко общей всево Отечества ползе и спокойствию»: Провинциальное дворянство России по материалам Уложенной комиссии 1767–1774 годов. С. 224–264.
245
См.: Лотман Ю. Идейная структура «Капитанской дочки» // Пушкинский сборник. Псков, 1962. С. 3–20.
246
Здесь и далее: Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. С. 48–49.
247
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. М., 1964. Т. 8. С. 146–148.
248
См. о службе И. И. Пущина и его соратников, которых Пущин называл de la magistrature renforcée (крепнущее судейство): Боленко К. Г. Генерал-губернатор Д. В. Голицын и московское служебное окружение И. И. Пущина в 1824–1825 гг. // Уральский исторический вестник. 2015. № 1. С. 92–100.
249
Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1988. С. 63.