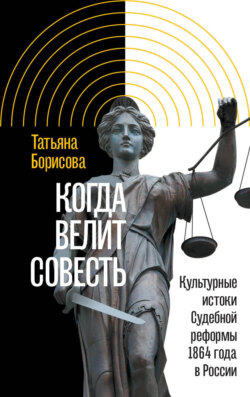Читать книгу Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России - Татьяна Борисова - Страница 27
Часть I
От «судебной части» к «судебной власти»
Глава 3
На правду и суда нет: «законодательные» и «судебные» функции литературы
Судебные амбиции русской литературы в диалоге с имперской властью: поединок придворных поэтов 1744 года
ОглавлениеБурный рост печати в первой половине XIX века привел к тому, что наступление «суда литературы» на все сферы жизни стало отчетливо заметно и в России. У этого своеобразного явления была своя предыстория, в которой можно заметить интересную параллель в развитии правосудия и литературы. Решающую роль для развития суда публики, так же как и в случае с развитием судебной системы, сыграли имперские амбиции российской власти. Если с 1722 года во всех судебных местах империи на судейском столе должно было находиться Зерцало, то в судейских сердцах, в идеале, помимо страха суда Божия должны были звучать величавые оды о царстве правды и о божественных силах, помогающих побеждать в битве с врагами306. Именно об этом писал в своем известном стихотворении 1780 года Г. Р. Державин, яркий поэт и министр юстиции:
Восстал всевышний бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?
Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.
Ваш долг: спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков307.
Кирилл Осповат показал, что, восславляя государственный суверенитет, светская литература XVIII века стала важным подспорьем для продолжения наступления светской власти на сферы, ранее подконтрольные только православной церкви308. Подчинив церковное управление одной из петровских коллегий – Синоду и упразднив экономическую самостоятельность православной церкви, обновленное Петром государство начало утверждать свои новые богоугодные добродетели в одах. Именно этот литературный жанр был призван властью стать новой проповедью государственных ценностей309, а светская литература постепенно стала теснить религиозные тексты, претендуя на роль учителя жизни. Театральные представления, открытые изящной публике Петром I, выполняли ту же воспитательную роль, высмеивая неправильное, с государственной точки зрения, поведение в комедиях и возвеличивая добродетель в трагедиях. Театр и литература с их нравоучительной прагматикой вовлекали публику в осуждение пороков и вознаграждение добродетели, тем самым способствуя формированию «судебных амбиций» публики310.
Если попытаться проследить генеалогию «судебных амбиций» литературы в России, то мы, вслед за В. Г. Белинским, должны принять за отправную точку елизаветинское время. В 1744 году произошло знаменательное событие, с которого можно отсчитывать историю апелляции к суду публики в литературном споре. Речь идет об известном печатном состязании поэтов и драматургов – Сумарокова, Тредиаковского и Ломоносова. В 1744 году они анонимно представили книгу-диспут «всех читающих обществу»311, в которой на суд публики предложили свои одические переложения 143‑го псалма Ветхого завета – псалма Давида. Каждый поэт анонимно изложил текст псалма тем стихотворным размером, который, по его мнению, наиболее приличествовал оде.
Этот известный поединок312 стал не просто важной вехой реформы стихосложения, в которой каждый из поэтов имел шансы утвердить свое понимание новой нормы силлабо-тонического письма для оды. Для нас важна судебная составляющая книги-диспута. Она заложила два согласованных представления о состязании литераторов перед публикой в литературной критике и печати вообще. Иными словами, то, каким образом Ломоносов, Сумароков и Тредиаковский приглашали публику выбрать лучший стихотворный размер, заложило основу базовых представлений о суде публики. В чем заключались эти представления?
Во-первых, противоборство предполагало равенство притязаний на истину участников литературного процесса при условии наличия у них литературного дарования. Поэты выступали анонимно, а следовательно, читатель мог считать их изначально равными в стихотворном искусстве. На это указывал эпиграф из «Науки поэзии» Горация, который анонимные авторы привели со своим переводом: «Sic honor et nomen divinis vatibus atque carminibus venit», то есть: «Сим образом искусные Стихотворцы и их Стихи честь и славу себе получают».
Во-вторых, влиятельным представлением стало признание силы за определенными приемами художественного мастерства. Профессиональной основой спора объявлялась древняя наука поэзии. В состязании поэтов спор шел о равнозначно легитимных размерах стихосложения, из которых публика должна была выбрать наиболее соответствующий высокому регистру одического стиха. Тредиаковский, который перевел на русский язык «Науку поэзии», выбрал для диспута эпиграф из той ее части, где Гораций говорил о высоком предназначении первых великих поэтов. Они толковали божественную волю, покоряли своим пением силы природы, вели воинов в бой и совершали прочие великие поступки313.
Предполагаемая доступность мастерства анонимных поэтов дополнялась широтой аудитории неизвестных судей, к которым обращались поэты за решением. Здесь примечателен выбор для состязания именно псалма из Псалтири, а не оды того же Горация или популярного в то время Буало. Действительно, церковнославянский текст Псалтири был доступен гораздо более широкому кругу публики, чем античные или французские тексты. При этом русские divinis vatibus, которых Тредиаковский скромно перевел как «искусные стихотворцы», отсылали знающего читателя к детально описанным Горацием священным (divinis) началам поэзии. Эта заявка на сакральное также, возможно, определила выбор текста из Псалтири.
Вообще в этом диспуте поэтов отчетливо проявились новые начала власти в обществе Нового времени: сакральное (слово Божье, пересказанное в псалме) вошло в союз с техникой (приемами стихосложения). Именно этот союз, судя по всему, обеспечил значимый рост общественного престижа поэзии и литературы вообще в елизаветинское время. Кирилл Осповат, продолжая исследования Б. А. Успенского и В. М. Живова314, показал, что десакрализация религиозного и подчинение его государственным задачам проходили в рамках переноса «священного» в сферу эстетического315. Включение широкой «литургической публики» в обсуждение светских явлений, каковым являлся спор об одическом переводе псалма, также работало на десакрализацию. М. В. Ломоносов в рассматриваемой книге-диспуте выразил эту мысль следующим образом:
Но я, о Боже, возглашу
Тебе песнь нову повсечасно;
Я в десять струн тебе согласно
Псалмы и песни приношу,
Тебе, Спасителю Царей,
Что крепостью меня прославил,
От лютого меча избавил,
Что враг вознес рукой своей.
Можно сказать, что печатный диспут 1744 года не только дал толчок развитию судебных компетенций публики, но и начал трансформировать уже разрабатываемую государством политическую функцию изящной литературы. Теперь в сферу светского обсуждения ее общих норм помимо стихотворца входил и читатель, претендующий на право судить о прочитанном. Мнение публики поэты объявляли важным для принятия решения о правильном размере стиха для русской оды. Приглашая публику рассудить их, три ведущих русских поэта признавали право публики выносить решение о наиболее «приличном» размере стиха для выражения национальных идей на русском языке в оде, то есть право судить316.
Самым кратким образом отметим грубо-оскорбительный характер полемики, которую вели между собой соревновавшиеся поэты в дальнейшем. Так, например, Сумароков в «Двух эпистолах» 1748 года, недвусмысленно указывая на Тредиаковского, обращался к нему с такими обличениями: «склад твой гнусен», «спроси хотя у всех… тебе пером владети грех»317. Тредиаковский не оставался в долгу и, протестуя против публикации этого стихотворения, справедливо писал, что «язвительство» Сумарокова нарушает правила литературной полемики: «не пороки пишушчих больше пятнаются, сколько сами писатели»318.
Как видим, внимание к личности субъекта и публичное ее обсуждение становилось своеобразной литературной практикой, предвосхищая публичный суд над личностью преступника. Подобно тому как прокурор будет стремиться создать негативный образ подсудимого у присяжных, поэты-соперники стремились очернить друг друга. Аналогичным образом в судах развернется спор о личности преступника между прокурором и адвокатом.
Забегая вперед, отметим, что новый суд, введенный в 1864 году, основывался на схожем представлении о судебных способностях публики, присяжных и государственных судей. Если они и не были равны в своих знаниях о юриспруденции и законах, то их уравнивала совесть. Во второй части книги будет показано, что эта идея, хоть и сложная в исполнении, представлялась вполне реальной. То, что совесть присяжных приравнивалась к совести судебных чиновников-юристов, было зафиксировано в Судебных уставах 1864 года. В них было прописано, что наравне с законом присяжные заседатели и все участники суда по должности – обвинитель, защитник, председатель судебного заседания – должны руководствоваться моральным суждением по совести. Совесть стала восприниматься особым свойством любого человека, которое нужно правильно применить в суде. Литература подготавливала писателей, читателей и театральных зрителей к общественному опыту применения совести.
Во многом общественное воздействие литературы на совесть судей объясняется схожестью механизмов ее воздействия на читателей и зрителей в трагедии. Их суть сформулировал Тредиаковский, критикуя «не изрядную» трагедию своего соперника Сумарокова. Он напоминал, что «сушчественных свойств трагедии» два – ужас и жалость319. Те же «существенные свойства» обнаруживаются в судебном поединке обвинения и защиты. Если прокурор требует сурового наказания, указывая на ужас преступления и вызывая жалость к его жертве, то адвокат на первое место ставит жалость к преступнику и ужас ситуации, когда преступление совершилось как бы само собой, без злой воли человека. Все это мы сможем проследить, когда перейдем к анализу конкретных судебных процессов, но сейчас подчеркнем, что литература стала своеобразным учителем чувств, воспитателем сочувствия публики. Именно сочувствие станет важной составляющей публичных судебных заседаний с участием присяжных, поэтому понимание особенностей морального суда литературы абсолютно необходимо. Без морального суда литературы Судебная реформа 1864 года не воспринималась бы такой значимой и успешной.
Важно отметить, что, призванные стать воспитателями подданных, литераторы второй половины XVIII века начали претендовать на роль, близкую по своему значению к законодательной. Они заявили о своем праве авторитетно судить не только о литературе, но и о ее главном средстве – литературном русском языке. Так, участник диспута поэтов Александр Петрович Сумароков (1717–1777), считающийся отцом русского театра и первым профессиональным русским литератором, наиболее последовательно выступал за защиту «правильного русского языка» от разного рода «порчи»320. Его основной мишенью был «подьяческий слог», которым затуманивался смысл законов и творилась несправедливость по всей России321. В своих произведениях Сумароков обвинял канцелярских служащих в том, что стиль их письма намеренно искажает истину в государственных делах. Так, он видел хитрый расчет канцеляристов даже в редком использовании знаков препинания, которым действительно отличаются документы середины XVIII века322:
Точек и запятых не ставят они для того, чтобы слог их темнее был, ибо в мутной воде удобнее рыбу ловить323.
Противопоставляя испорченный канцелярский язык правильному литературному, Сумароков обличал неправильности орфографии, лексики, синтаксиса и пунктуации «подьяческого вздора», даже особенности почерка канцеляристов, и использовал дидактический жанр наставления, чтобы аллегорически «казнить» ненавистных подьячих на правильном литературном языке:
Вместо чтоб сказати: Который подьячий взял с меня взятки, и который заслужил себе за то наказание; котораго крючкотворца севодни сковали за вину, за которую осудили его повесить. Могу я так сказать… Подьячего взявшаго с меня взятки, и заслужившаго себе наказание, скованнаго за вину, и осужденнаго на виселицу324.
В целом Сумароков стал первым критиковать язык судопроизводства (и делопроизводства вообще), в котором, по его остроумному замечанию, вследствие разнообразных манипуляций теряется суть дела:
Многие пишут присудствовать; ибо подьячие чают то, что сие слово не от Суть но от Суда325.
По мнению Сумарокова, истинную суть вещей должны были выяснять ученые, которым «позволено изображать кажущееся истиною, хотя оно и не основательно»326.
Конечно же, в XVIII веке в подобном суде публики могли участвовать лишь читатели весьма узкого круга, которые получили экземпляры книги-диспута от самих поэтов и их друзей в качестве некоего знака вежливости или почтения. Театральными постановками высоких драматических произведений, торжественным чтением од или критических эпистол могли наслаждаться только привилегированные подданные. В XIX веке с ростом образованности в обществе читательский круг расширялся327, одновременно с этим росли и претензии писателей на суд, особенно на суд о настоящем судопроизводстве.
306
Интересным образом эти идеи находили воплощение в реальной жизни, когда в частной переписке совестный судья писал о своих служебных заботах, цитируя одическую поэзию. См.: «Душевно к вам привязан»: Переписка графа Александра Воронцова и бригадира Алексея Дьяконова (1780‑е годы) / Сост. М. Б. Лавринович. М., 2022. С. 178.
307
Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957. С. 96.
308
Осповат К. Придворная словесность. Институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века. М., 2020; Живов В. М. Государственный миф в эпоху Просвещения и его разрушение в России конца XVIII века // Из истории русской культуры. М., 1996. Т. 4: XVIII – начало XIX века. С. 657–684; Wirtschafter E. K. Religion and Enlightenment in Catherinian Russia. DeKalb, 2013.
309
Осповат К. Придворная словесность. С. 142–143.
310
Wirtschafter E. K. The Play of Ideas in Russian Enlightenment Theater. DeKalb, 2003.
311
Три оды парафрастические псалма 143, сочиненные чрез трех стихотворцев, из которых каждый одну сложил особливо… СПб., 1744.
312
Шишкин А. Б. Поэтическое состязание Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова // Русская литература XVIII – начала XIX века в общественно-культурном контексте. Л., 1983. С. 232–247. См. о продолжении этой полемики: Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750–1765. М.; Л., 1936; Гринберг М. С., Успенский Б. А. Литературная война Тредиаковского и Сумарокова в 1740‑х – начале 1750‑х годов. М., 2001.
313
Тредиаковский В. К. Сочинения. СПб., 1849. Т. 1. С. 113.
314
Живов В. М., Успенский Б. А. Царь и Бог: Семиотические аспекты сакрализации монарха в России // Успенский Б. А. Избранные труды. Семиотика истории. Семиотика культуры. 2‑е изд. М., 1996.
315
Осповат К. Придворная словесность.
316
Как показывает Андрей Костин, этот процесс связан с развитием «поля поэзии» как новой формы самоощущения и общественной жизни российского образованного класса: «на коротком отрезке конца 1740‑х – начала 1760‑х годов поле поэзии в России радикально перестраивается, включая читателей не как стоящих в стороне свидетелей, но как активных участников, вовлеченных (вовлекаемых) в конструирование поля». См.: Институты литературы в Российской империи / Сост. и отв. ред. А. В. Вдовин, К. Ю. Зубков. М., 2023. С. 73.
317
Цит. по: Гринберг М. С., Успенский Б. А. Литературная война Тредиаковского и Сумарокова. С. 16.
318
Там же. Лотман обращал внимание на то, что автор в русской литературной традиции должен иметь безупречную личную репутацию, только тогда ему поверит читатель. Лотман Ю. М. Литературная биография в историко-культурном контексте (к типологическому соотношению текста и личности автора) // Ученые записки Тартуского университета. Вып. 683: Труды по русской и славянской филологии. Литература и публицистика. Проблемы взаимодействия. Тарту, 1986. С. 106–121.
319
Цит. по: Гринберг М. С., Успенский Б. А. Литературная война Тредиаковского и Сумарокова. С. 14.
320
Живов В. М. Язык и стиль А. П. Сумарокова // Русский язык в научном освещении. 2007. № 1 (13). С. 7–51.
321
См.: Руднев Д. В. «Подьяческий слог» в оценке А. П. Сумарокова (об особенностях канцелярского языка середины XVIII века) // Литературная культура России XVIII века. Выпуск 7 / Под ред. П. Е. Бухаркина и др. СПб., 2017. С. 50–77. См. также: Гуковский Г. А. Сумароков и его литературно-общественное окружение // История русской литературы: В 10 т. АН СССР. М.; Л., 1941–1956. Т. III: Литература XVIII века. Ч. 1. С. 349–420.
322
Руднев Д. В. «Подьяческий слог» в оценке А. П. Сумарокова. С. 58.
323
Сумароков А. П. Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе: В 10 ч. М., 1781–1782. Ч. VI. С. 378.
324
Там же. Ч. X. С. 23.
325
Там же. С. 47.
326
Там же. Ч. IX. М., 1782. С. 324.
327
Это хорошо видно на примере постепенного расширения театральной публики. В первой трети XIX века драматическое искусство стало достоянием широкой городской публики. В Петербургских записках 1836 года Н. В. Гоголь отмечал, что театр стал тем «пунктом», в котором «сталкиваются классы петербургских обществ и имеют время вдоволь насмотреться друг на друга» (Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. Л., 1952. Т. 8. С. 180). См.: Денисенко С. В. Театр // Быт пушкинского Петербурга: Опыт энциклопедического словаря. СПб., 2011. Т. 2. С. 301–309.