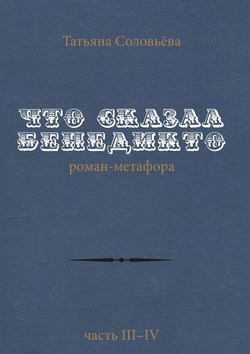Читать книгу Что сказал Бенедикто. Роман-метафора. Часть 3—4 - Татьяна Витальевна Соловьева - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть третья
Глава 67. И никакого Вис-Бадена
Оглавление***
Дом был одноэтажный, но большой. Стоял особняком – вокруг сад, все цвело. Вебер сразу увидел в окне Альку, приникшего лицом к стеклу. Увидев Вебера, Алька забеспокоился, заоборачивался, что-то говоря в комнату и показывая пальцем в окно.
Взять за раз пакеты, цветы, игрушку было невозможно. Вебер решил, что первый вход он осуществит с пакетами, заодно примерится к обстановке. Знает ли Аня, что он приедет? Если нет, так еще и погонит. Но Анна-Мария знает наверняка. Ее поддержкой и ее спокойным приемом и следует заручиться. От волнения даже кружилась голова.
Он вошел в дом. Аня слишком удивлена. Анна-Мария показывает, куда нести поклажу, ее спокойный вид, ее обычный поцелуй в щеку вместо длинных приветствий, успокаивает Вебера, и Анечке его приезд не кажется уже не законным. Алька у Ани на руках весь извивается, чтобы освободиться, – стремится занять руки Вебера, пока и так занятые.
– Хорошо, что ты догадался заехать за продуктами… Неси все на кухню. Ты даже это не забыл…
На кухне она тихо спросила про Гейнца.
– Ему лучше. Агнес – волшебница, – также тихо ответил Вебер и поставил пакеты.
– Мне нужно туда поехать? – спросила Анна-Мария.
– Агнес не говорила, и я завтра к обеду возвращаюсь.
– Цветы в машине? Можешь выйти через кухню, эта дверь открыта.
– Я и тебе цветы привез. Только я не знаю, что тебе дарил Кох. Извини, я привез тебе белые лилии – по старой памяти. Ты меня не выгонишь?
– Конечно, нет.
Вебер еще раз вошел в дом, теперь с букетами. Альку пересадил себе на руку, озадачил его игрушечным лохматым щенком, отдал лилии Анне-Марии. А к жене приник вместе с букетом – букет мешал, Вебер отложил его в строну и свободной рукой крепко обнял жену. Вебер видел, с каким серьезным любопытством Алька созерцает их долгий поцелуй. Алька трогает диковинно заросшую щеку Вебера – с самого концерта про бритву так и не вспомнил, протискивает пальчики между их лицами, пытается подставить им своё, оба целуют его. Алька тоже старается их обнять. На щетину Вебера смеется – предлагает им поцеловать своего щенка, принимая и его в свою семью, тычет на его мохнатые щеки и повторяет который раз одно и то же: «как папа».
– Ты как беглый каторжник, – первое, что шепотом говорит Аня, только глаза ее смеются счастьем.
– Я и есть каторжник, ты не представляешь…
Аня идет ставить цветы. Поправляет волосы. Вебер машинально идет за ней, неся Альку на руках – он не способен от неё отойти. Анна-Мария зовет Альку. Предлагает ему показать собачке дом и сад, иначе собачке будет страшно и все непонятно. Алька охотно берет Анну-Марию за руку и следует за ней, по пути объясняя игрушке, что «это – папа», что «папа-приехал», что «это – кухня», а «это – окно»… И за окном – канадская сирень. Вся сирень отцвела, а эта цветёт позже и красивее всех, и потому собачка ее посмотрит, понюхает, а дядя Вильгельм такую сирень из окна даже нарисовал. А дядя Вильгельм – вот. Показывает на портреты-фотографии – это дед Аланд так придумал, что здесь никого, кроме мамы, Агнес и тети Анны-Марии нет, а на самом деле – все есть. И дядя Абелёчек, и Гейнцек, и Карл, и Вильгельм, и папа тоже есть.
– Тетя Анна-Мария, а собачкин портрет мы повесим?
– Мы тебя сфотографируем с твоим новым другом и портрет непременно повесим. Как собачку зовут?..
Они выходят в сад, а Вебер совсем-совсем близко видит только глаза жены. Его поцелуй не остановить ничем, и в объятиях он не сдерживает себя.
– Ты всего-то три дня нас не видел…
– Я думал, что это продлится вечность. Это и была вечность. Я совсем не могу без вас. Это были не дни, я не знаю, что это было!.. Алька – вырос, он стал куда лучше говорить…
– Перестань целоваться. Мне неудобно. Вильгельм никогда бы не стал так себя вести со своей женой на людях.
– Какие люди!.. и вообще он старый дурак. Впрочем, я не уверен. На людях – не знаю, но Абелю-то этот целомудренный аскет рога наставил.
– Рудольф, как ты можешь…
– Но Абель-то остался с носом. А всё его тихий брат…
– Анна-Мария, – предупредила о ее возвращении Анечка. – Тише!
– Через полчаса будем обедать. Альбертик, ты мне поможешь? А то мне скучно будет одной готовить… Ты будешь со мной готовить папе обед?
– Папе обед?
Ему вручается луковица, – сдирать с нее кожуру – это очень интересно и надолго.
– Вот Анна-Мария меня понимает. Ты куда, Аня?
– Помочь. Не Альберт же будет обед варить.
Вебер просто забрал жену в объятья и потянул за собой.
– Альберт, Альберт будет помогать. Вот я уеду – и перечисти хоть ящик лука. Я ни на шаг тебя не отпущу. Просто забудь, что это может быть. Мой сын – настоящий мужчина. Он меня прикроет, не мешай ему, и не вздумай от меня отойти. Ты не знаешь, что были эти полгода…
– Три дня.
– Нет, они были… это чудовищная вечность…
– Думаю, что своим досрочным освобождением ты обязан Альберту. Он целые дни тебя ждал.
– А ты нет?
– Я очень старалась мысленно тебя не тревожить.
Вебер видит в отражении зеркала букет белых лилий – и почему-то видит серьезное, почти строгое лицо Фердинанда. И он не знает, как благодарить Абеля за то, что он – обладатель всех несметных сокровищ мира или всех миров. Он так счастлив, как, наверное, неприлично быть счастливым.
Анечка идет на кухню, они о чем-то говорят с Анной-Марией. Вебер садится рядом с Алькой, наблюдая, как тонкие пальчики упорно стремятся «раздеть» эту никому не нужную луковицу, обед готов, но Альберт старается. Вебер ничего с собой не может поделать, обнимает его, утыкается в него лицом. Альберт удивленно заглядывает ему в лицо, поворачивая его к себе рукой. Но Вебер берет его на руки и долго молча держит его в руках. Никому не объяснить щемящее огромное чувство любви к этому маленькому человеку. Оно жаркой волной разливалось по сердцу, не давало дышать, лишало сил.
Алька спокойно, деловито, с достоинством восседал у него на коленях, приваливался время от времени к груди, смотрел в глаза, и опять засмеялся. Потрогал снова небритые щеки Вебера и повторил: «как у собачки». Анна-Мария с Аней смеются, ему приходится все-таки встать и идти приводить себя в порядок. Видел ли кто-нибудь, когда-нибудь человека, который во время бритья так неистово молится и за все благодарит Бога?..
Вечер прогулок, милой болтовни ни о чем. Долго рассказывал Альке какую-то книгу. Алька заснул. Потом заснула жена. Кажется, весь мир спал, было тихо как до Сотворения. Он не мог найти себе места, бродил по саду, по дому, все не в силах справиться с острым огромным ощущением счастья. Что-то думалось про Гейнца, про Абеля, обо всех думалось – но опять мыслью это не назовешь, беспокойством не назовешь, что-то распирающее душу от немыслимой благодарности всем этим людям, давшим его жизни такую полноту, такое ликование. Он долго смотрел на «Сирень» Коха, пристраивая светильник то так, то иначе. Подошла Анна-Мария.
– Не спится?
– Не могу, Анна-Мария, мне просто невыносимо хорошо. Я не знаю, что с собой делать. Я совсем стал дураком. Смотрю на рисунок Вильгельма – словно впервые. Я не замечал, что его рисунок – светится, что в нем столько любви…
– Он рисовал это в наши первые дни, он тоже не мог себя приложить. Бродил по дому, смотрел, как я сплю. Тогда он это и нарисовал.
– Я помню, зачем я оставлен здесь…
– Рудольф, ничего не надо. Побудь таким. Посиди у сына, побудь с женой. Не надо сегодня ничего другого.
– Анна-Мария, меня шатает от счастья. Так ведь тоже не должно быть? И я не понимаю, может ли что-то во мне это ощущение счастья поколебать? Кажется, нет.
– Рудольф, запомни это чувство, – если честно, я так редко видела тебя абсолютно счастливым. Тебе это очень идет. И чем чаще ты будешь таким – тем скорее пойдет твоя работа.
– Ты знаешь о ней?
– Мне никто не говорил, но я часто ловлю себя на том, что о чем думает Вильгельм, то поселяется и во мне. Это помимо воли. Словно перетекает.
– Можно, я потом привезу сюда Гейнца? Ему нужно окрепнуть, пусть он выкупается в этой любви. Он растерялся или устал. Он мечется, он просто не понимает, куда себя деть. Музыка уже жмет ему. И его болезнь – такая нелепость. Он ведь собрался в Рим, на гастроли, он хотел снова сбежать от себя.
– Пока ему в Рим не надо. И хорошо, что он никуда не поедет. Он сам не поедет, тебе не придется его удерживать. Как тебе Клаус?
– Хороший парень. Молодой, конечно, но при всем его образе жизни – по-моему, в гнили в нем не много.
– Хорошо, что ты его пригрел. Ты его не намного старше. Рудольф, ты иногда забываешь, что ты тоже совсем еще молодой. С нами, со стариками, связался…
– Я не понимаю, почему Господь дал мне жену. Сына. Эту невыносимую, огромную любовь к ним, к вам. Я и вас всех – так люблю. Я не знаю, что с собой поделать.
– Фердинанд тоже так всех любил. Даже твоего еще не родившегося сына. Это чувство, что сносит тебя сегодня, тебе привет от него.
– Ты что-то знаешь о нем?
– У него все хорошо.
– Агнес сказала, что он лечит. Строит больницу…
– Значит, он строит больницу и лечит.
– От Коха с Аландом не было вестей?
– Они в пути.
– Тебе трудно без него?
– Я с ним. Но я буду рада, когда он, как ты, придет, и его голос зазвучит в стенах Корпуса или дома. Он совсем не старый дурак, Рудольф. Просто он для вас закрытый человек. Вы никто ничего о нем не знаете. И возможно, не узнаете никогда. И я его не знаю до конца, он мне иногда приоткрывается – и в этом мое счастье.
– Прости меня, Анна-Мария. Я сам Коха люблю, я знаю, что он особенный. Понимаешь, они все особенные. Не объять мозгами все, что они с собой в мою жизнь принесли. И как я благодарен им. Ты себя хорошо чувствуешь?
– После операции, которую Фердинанд сделал, очень хорошо.
– Но тебе нельзя иметь детей?
– Я не знаю, Вильгельм не хочет мной рисковать. Наверное, у него есть основания. И мне сорок один – про это тоже следует помнить.
– Прости, Анна-Мария. Ты мне кажешься такой же, какой я увидел тебя девять лет назад. Или десять… Ты совсем не меняешься. Все должно быть хорошо.
– Все и так хорошо. Ты пойми, что у меня просто иначе, чем у тебя, все хорошо. И я тоже, как и ты, не могу заснуть от счастья.
– Здесь так тихо. Мне так жаль, что спит Альберт, спит Анечка… Скоро рассвет.
– Сходи, разбуди жену, потом вы вдвоем тихонько выкрадете Альку из его постели – я с вами в заговоре. Он будет рад проснуться среди вас – и увидеть, как встает солнце. Не думай, что он маленький. Гейнцек с ним обо всем говорит, – и что уж там Альберт понимает – не знаю, но как он всех слушает, как он жадно живет… Иди. Я посижу у картины Вильгельма. Я сама каждую ночь прихожу на нее посмотреть. В ней, действительно, свет. Иди тихо-тихо к жене. Тихо-тихо ее разбуди. Не торопись, я еще не поговорила с Вильгельмом. Считай, что у нас с ним встреча – под этой сиренью, дай мне побыть с ним. Ты сегодня едва не сорвал нам свидание, – она улыбнулась.
– Я всегда знал, что ты необыкновенная женщина. Я понимаю, почему Кох и Абель за тебя всю жизнь сражались.
– Слава Богу, не всю. Фердинанд ошибся. Аланд ему об этом сразу сказал. Только вы все упрямые. Бедный Аланд. Как он с вами управляется?
– Небо только синеет, до восхода солнца еще есть время.
– Да. Солнце из-за горизонта покажется вон там, его отсюда очень хорошо видно.