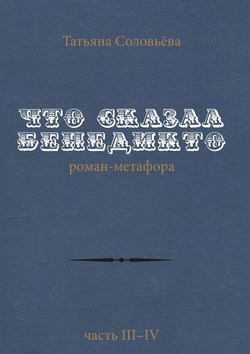Читать книгу Что сказал Бенедикто. Роман-метафора. Часть 3—4 - Татьяна Витальевна Соловьева - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть третья
Глава 62. Доменико Скарлатти
ОглавлениеЕсли не считать заботливых рассуждений Карла Клемперера о том, способен ли Вебер после чудовищного избиения заниматься в классе единоборств, больше об инциденте с Агнес никто не вспоминал.
Орган, размещенный в подвале, в котором Вебер раньше не бывал, расположен был в комнате с превосходной акустикой. Небольшой, самые крупные трубы не более трех метров, но мануалы органа – это было все, что нужно для начальных этапов работы с музыкой. Весь вечер Вебер с Гейнцем проползали вокруг инструмента, завершая монтаж, – Аланд заходил, смотрел на то, как они, обо всем позабыв, доводили до ума инструмент, улыбался и уходил. Заходил один, с Агнес. Первым сел поиграть, усадив жену в учительское кресло. Потом к полному потрясению Вебера привел Анечку, разрешив ей встать, объявил, что все в полном порядке.
Работой Аланд завалил Вебера беспощадно. То, что Анечка и Агнес постоянно находились в Корпусе, успокаивало Вебера. Он испытывал невероятный подъем сил.
Вид оркестра напугал его только в первую минуту. То, что рядом были Аланд и Гейнц, придавало уверенности, но полностью Вебер успокоился только за инструментом. Игра с оркестром оказалась еще одним из незнаемых раньше блаженств. Концерты он отыграл легко, сам растворяясь в музыке. Даже вечно споривший с Аландом Ленц, который первоначально отнесся к Веберу очень скептически, остался доволен, и за неделю три подряд сыгранных концерта заставили Ленца изменить отношение к Веберу – они расстались друзьями.
Вебер хотел играть еще и еще – и был уверен, что Аланд немедленно известит его о новых выступлениях. Но Аланд после третьего концерта отвел Вебера к себе, усадил его перед собой и заговорил совсем не о том, о чем думал Вебер.
– Мне всего-навсего нужно было, чтобы ты понял: карьера музыканта для тебя не менее доступна, чем твое хваленое преподавание математики, что это приносит тебе самому удовлетворения куда больше, не так ли? У тебя будет время заняться концертированием, это вопрос решенный. Но сейчас поговорим о другом. Пути во внешнем мире мы с тобой обозначили. Поговорим о той работе, которую ни при каких обстоятельствах мы прерывать не должны, – надеюсь, ты понимаешь, о чем я.
Вся эйфория успеха слетела с Вебера в один миг, даже румянец с его щек как-то быстро ушел. Он, конечно, понимал, о чем завел разговор Аланд, и сам он часто думал о том, что медитация, предписанная ему Бенедикто, фактически сошла на нет. Нет Абеля. Никто не дублирует работу Вебера, и, следовательно, она остановилась, чего быть не должно.
– Не думай об этом: ни я, ни Кох, ни Фердинанд – не прекращали этой работы. Твою работу делали все это время, и тем не менее, ты должен вернуться к ней.
– Я понимаю, что я снова не уделяю ей достаточно времени…
– Для этой работы не бывает его достаточно, его всегда недостаточно, Рудольф, пора возвращаться к делу и учиться совмещать жизнь внешнюю – с работой на внутренних планах. Я попрошу тебя сосредоточиться и увидеть еще раз те картины, что когда-то продемонстрировал тебе Бенедикто. Давай посмотрим, что изменилось – и изменилось ли хоть что-нибудь? Пожалуйста. Оставайся спокоен, что бы ты ни увидел, – это просто работа, Рудольф, не делай пока трагедии – эмоции сильно мешают. Пропусти сейчас все эти картины, сличая как аналитик то, что ты видел прежде с тем, что увидишь сейчас. Посмотрим, имела ли твоя без конца нарушаемая эмоциями и событиями работа хоть какой-то результат – или она пока была нерезультативна. Смотри и говори, общение со мной сейчас не нарушит твоей концентрации.
– … Я вовсе не вижу Николая… Ни живым, ни мертвым… Не вижу их дома.
– Да, Николай выведен из круга твоих беспокойств, он проживет долго и счастливо, тихо и мирно. Дом их – как место событий – тоже больше не фигурирует, он исчез, для нас его больше не существует.
– Но… с Аней… все то же самое?.. Она убита…
– То же самое? Ты уверен?
– Ран намного меньше, но она мертва…
– Но их меньше. Смотрим дальше.
– Карл – все равно рассыпающийся в небе самолет…
– Дальше.
– Он страшно избит – на полу. Это камера…
– То есть самолет-самолетом, но Карл жив?..
– Не уверен, что ему от этого легче.
– Это не твое дело. Речь идет о запасе жизненной энергии, Рудольф. Дальше.
– Гейнц… Да, сцена. Рука. Разбитая скрипка… Машина и взрыв. Столп огня до неба. А он внутри…
– Да. Пока это так. Дальше.
– Кох… Не понимаю… Анна- Мария – убита, отец Адриан, отец Карла… Это все очевидная гибель… Фердинанда не вижу. Вы… господин генерал… Что это такое?..
– Что это такое? – передразнил Аланд.
– Но… это невозможно… Ваш китель как решето…
– И я лежу в гробу, сложив чинно руки крестом.
– Нет, вы идете. Этого не может быть. Я пересчитать не могу ваших ран.
– Я тебе всегда говорил, что математика – это не твое. Дальше.
– Не могу понять… Еще какой-то человек – я не знаю его…
– Скоро узнаешь.
– Но с вами – с вами не может такого случиться.
– Почему? Я пришел завершить свои дела, передать их вам. Это как раз нормально. Скажи о себе.
– Похоже, что в сердце. Но мой сын совсем маленький… Я не понимаю… Это какой-то храм – орган… Меня так скоро убьют?
– Не хочется, правда? И мне не хочется. И сын твой тоже вовсе этого не хочет.
– Фердинанд рядом. Он уже вернется?
– Конечно, вернется.
– Что же делать?
– Я просил тебя обойтись пока без эмоций. Это эскизы, у тебя есть время над ними серьезно поработать.
– Да, я прошу, отец… Ты говорил, что я могу приступить к интенсивной медитации.
– Мне было нужно, чтобы ты сам этого захотел, Вебер.
– Да, я готов – хоть сейчас…
– Сейчас ты пойдешь к жене. Ничего не объясняй. Просто скажи, что ты уезжаешь, что я неумолим, и что она остается здесь на нашем попечении. Ты меня понял?
– Да.
– Сегодня дай ей порадоваться твоему успеху.
– А если она спросит – куда?
– Вебер, мало ли кто что спросит. Ты офицер секретного Корпуса. Пусть тебя спросит сам Господь – промолчи. Если он Господь – он и сам знает. А остальным говорить ни о чем ты не имеешь права.
– Да, отец.
– Утром выполнишь разминку, в девять придешь ко мне, я все объясню подробно и провожу тебя. Первое время я побуду с тобой, потому что при первой попытке могут возникнуть самые непредсказуемые трудности. А сегодня постарайся провести вечер как счастливый человек. Ты уходишь изменить то, что готово помешать тебе и тем, кого ты любишь, оставаться счастливыми.
– Да, отец.
– О музыке не беспокойся, ты ничего не растеряешь. Дай я обниму тебя. Ты был на сцене выше всех похвал. Я тобой очень горжусь. Если ты сумеешь сегодня не подать виду, куда ты завтра уходишь, и сможешь провести, хоть пару недель в непрекращающейся медитации – это будет куда больший успех, сын.
– Да, отец. Если мы сходим прогуляться?..
– Хорошая мысль. Нужно, чтобы ей запомнился этот вечер. Посвяти время только ей, ей одной. Ночь ясная, луна близка к полнолунию. Холода особого нет, пусть теплее оденется… Ей нужно очень близко и необычно запомнить твое лицо, для нее это то, что она все время твоего отсутствия будет видеть перед собой. Будь таким, каким ты хочешь, чтобы она тебя запомнила, хоть стихи ей читай, хоть целуйтесь до одури, дышите небом – могучим и потрясающим звездным небом. Давай я сам ей сообщу, что ты завтра уедешь, – я понимаю, что тебе не хочется произносить для нее эту фразу. Мне она пока все прощает, я ее фаворит, потому что я твой отец.
– Да, я как раз об этом подумал…
– И я как раз подумал о том, о чем ты подумал, – Аланд засмеялся, повел Вебера к дверям, пошли в комнаты Абеля, так и оставшиеся комнатами Абеля – при всех своих неузнаваемых переменах внутри.
И Вебер подумал, что у Абеля все хорошо, раз Аланд спокоен, и раз Фердинанд непременно вернется, то у него все хорошо.
– Да. У Абеля все хорошо, – как эхо, отозвался Аланд.
Веберу пришлось со всеми проститься, как перед отъездом. Аланд сказал, что о том, что Вебер не уезжает, знают только Кох и Абель.
– Абель? Я его так и не вижу.
– Не беспокой его.
Все помещения подвального этажа, все инструменты – орган, рояль, клавесин, все необходимые последнее время ноты – все было здесь и доступно для Вебера. Аланд сказал, что время от времени он может снимать эмоциональное напряжение музицированием – но музыкальные упражнения не самоцель. Насчет двух недель, конечно, сказано очень условно – как пойдет. Может, и две, а может, и больше. Но думать об этом не надо. Если он сумеет по-настоящему войти в работу, прерываться ему не захочется самому. За жену беспокоиться нет смысла.
Сейчас, пока Вебер не вошел в необходимое для работы состояние, пока медитация недостаточно глубока, Аланд будет приходить, иногда будет приходить Кох, чтобы заполнить моменты томления Вебера прохождением сонат, которые он сыграет, когда выйдет отсюда.
Аланд больше следил за распорядком и работал с Вебером над медитацией, Кох проходил с ним сонату за сонатой Скарлатти. Вебер абсолютно успокоился – может быть, потому что внутреннее зрение быстро вернулось к нему. Анечку он видел спокойной, окруженной заботой. Видел ее смеющейся, счастливой, чувствовал, что она тихо грустит о нем, но знал, что она все понимает.
Кох и Аланд приходили все реже, работа над медитацией затягивала его. Все время он отдавал ей. За рояль он садился изредка, – и сколько времени отделяло одно музицирование от другого – он уже не мог сказать. Часов не было, время текло по своим законам. Иногда он переигрывал десятки сонат за роялем, переводил их в клавесин. Не в силах успокоиться от странного томления бродил по комнатам. Подходил к органу – и, думая про Абеля и пытаясь к нему пробиться, садился за орган и снова проваливался в музыку на многие часы.
Абеля он так и не видел, он понимал, что раз Аланд просил не тревожить своими мыслями и тоской Фердинанда, то так и следует делать. И все-таки совсем не думать про него не мог, не мог довольствоваться одним общим знанием, что «все хорошо». Он все больше играл на органе, улавливая при этом тонкое ощущение присутствия Фердинанда. И тоже – как будто просто иначе – проваливался в медитацию.
Он слушал не музыку, что рождалась под его руками, а выслушивал космическую пустоту, он растворялся в странных мыслях вне слов – прощупывал космический вакуум, отделивший его вдруг от дорогих, самых дорогих, для него людей, и бесстрашно погружался в черную дыру, словно сердцем приблизился к краю той страшной сердечной воронки, что едва не поглотила Абеля. Этот человек сделал для счастья и жизни Вебера все – больше, чем может сделать один человек для другого. Черная дыра, вывернувшая жизнь Абеля наизнанку, поставившая его вне мира, вне общества даже самых преданных и любивших его людей, – была личным врагом Вебера – и он сходился с этой ненасытной тьмой в поединке, с удовлетворением выходя из нее самим собой, то есть непобежденным.
Беспокойство о жене и сыне совсем оставило Вебера. Возможно, его физическое отсутствие даже больше служит покою, необходимому им. Душа его всегда была при них – не чувствовать этого они не могли. Покой в Анечкиных глазах – это был и покой его долгожданного Гостя. Это его крохотный сын вместе с Анечкой – под руку с Аландом, Карлом, Гейнцем – путешествовал по театрам, сидел в опере, отдыхал у Аланда дома за спокойной беседой и хорошим ужином, это он гулял с ними у озера. Это его сын замирал в миг тишины перед открытием занавеса, с удивлением озирая все лучшие залы Берлина, Потсдама. Вебер был благодарен своей семье, – он не сумел бы превратить беременность жены в такой праздник – он бы суетился, нервничал, ограждал её от всего, во всем видя опасность и заранее сходя с ума от несуществующих возможных проблем. Сколько всего сын его не увидел бы, и как не знал бы он этого тихого света ожидания – которым сам Вебер и Анечка жили все это время.
Он уходил в медитацию все спокойнее и пребывал в ней все дольше, оставляя этот населенный дорогими людьми мир. День за днем сливались воедино, он не замечал, что неделями отсутствует в духовных скитаниях. И даже за инструментами – в момент его соприкосновения с этим миром – состояние незыблемого покоя не оставляло его, – медитация видоизменялась, но не оставляла его полностью. В глубокой внутренней отрешенности, незнаемом прежде абсолютном сосредоточении на внутренних картинах, он поднимался из-за органа (рояля, клавесина), бродил по комнатам. Иногда он обнаруживал на столе горячий свежий чай, что-то из легкой пищи и понуждал себя немного поддержать тело, ставшее таким легким, настолько не мешающим его духовным упражнениям, что он сам иногда с удивлением смотрел на свою побелевшую – с каким-то полупрозрачным оттенком – и при этом сильную руку. Удивлялся, что эта рука разгоняет мощные волны звуков, задает точнейший, непоколебимый ритм, что эти пальцы умно и точно пробегают по мануалам, колдуют звуком. Он менялся. И все это было просто, безболезненно, совершенно естественно – такой внутренней полноты он не испытывал никогда.
Ритмы и гармонии, по-настоящему великая и мощная музыка – самого его уводили за пределы тела, обычного удовлетворения, волнения – его существо наполнялось покоем и блаженством, каким-то тихим, ровным светом. И было одинаково приятно – открыть глаза и закрыть их, – свет по обе стороны встречал его, он был не одинаков, как две комнаты одного Дома – теневая и солнечная. После безумного сияния и обжигающего экстаза одного мира – тянуло в тень и прохладу другого. Ему не хотелось выйти на улицу, узнать, какой день, – все равно. Его жена еще ждет их сына, и он его ждет. Ему довольно мысленно приникнуть ухом к ее округлившемуся животу, чтобы услышать частое биение дорогого сердца, чтобы с жаром обнять жену, зацеловать ее глаза, губами долго перебирать пряди ее волос. Целовать ее брови и пить с ее губ поцелуй. Иногда находило – как оцепенение – желание обнять, ощутить руками, губами, грудью ее присутствие рядом, – миг беспокойства, смущения. Он бродил еще немного потерянный и скорее уходил в медитацию, чтобы не выйти из равновесия. И все успокаивалось. И, наконец, он покинул тело надолго.
Из медитации его вывел Аланд. В теле та же легкость: свобода движения, легкость дыхания, ясность мысли и чистота внутреннего виденья.
– Рудольф, мы поедем сейчас в Школу музыки – ты сыграешь там с десяток сонат, нужно немного удивить корифеев.
– Чем?
– Ты поймешь чем, когда сядешь в зале перед аудиторией за инструмент.
– Мне не следует разыграться?
– Ни в коем случае. Нужно, чтобы первый звук, который ты извлечешь после двух месяцев твоего отсутствия, ты извлек при них. Это совсем другой будет звук, – и это то, что им следует отождествить с тобой и твоей игрой.
– Двух месяцев?
– Два месяца – это была непрерывная медитация, когда ты последний раз покинул тело. До этого был почти месяц смешанной работы, пока ты готовил тело к длительному переходу.
– Что за день сегодня?
– Сегодня твой день, Рудольф. Не беспокойся, жена твоя в полном порядке. Она ждет тебя, вы поедете вместе. Сейчас ты вернешься из отъезда – и пара часов у тебя есть до выступления, чтобы со всеми пообщаться.
– Что я буду отвечать?
– О поездке – разумеется – ничего. Все в курсе, что это не обсуждается. А радоваться вы будете друг другу искренне.
– Я не заметил, что прошло столько времени.
– Так и бывает. Я очень доволен тобой. Ты много сделал. Сам ты не вполне можешь это оценить – потому что для тебя твое состояние естественно, и ты перешел в него без потрясений, мягко. Предоставь оценить перемену в тебе другим. Для тебя это первый шаг. Ты пойдешь дальше. Но ты поймешь, что даже первый шаг твой стал серьезной трансформацией. Ты не тот Рудольф Вебер, который спустился сюда в ноябре. Переоденься, твой портфель так и не разобран, ты появишься, пока никого в Корпусе, кроме женщин, не будет, – но они увидят тебя, только когда ты поднимешься на второй этаж.
– Где все?
– Зачем ты спрашиваешь?
– Да, я вижу, они на стрельбище.
– Именно. Ты играешь сегодня только тем, от кого зависят твои дальнейшие выступления, в одиннадцать мы должны быть там. Поторопись.
– Я приду к жене после трех месяцев отсутствия без цветов? – улыбнулся Вебер.
– Я об этом подумал.
У Вебера защемило сердце при виде изменившейся фигуры жены. Она долго, странно смотрела в его лицо, в глаза – и зацеловала его лицо с таким жаром. Он обнимал ее и понимал, что никогда не испытывал в жизни такой нежности, такой любви к ней, и вообще никогда не испытывал эти чувства с такой силой. Ничего не мог ей сказать. Просто ни единого слова, все слова были пустяком перед тем, что он чувствовал, и она чувствовала вместе с ним – потому что молчала и она.
А он боялся вопросов. Не было и не могло быть никаких вопросов. Глаза говорили обо всем, и жар идущий волной нестерпимого блаженства обволакивал их обоих. И про цветы забыли. Агнес, пришедшая часа через два с каким-то легким завтраком и напоминанием, что «пора», поставила цветы в вазу.
Сборы немного вернули их к жизни, захлопали двери, зазвучали голоса Гейнца, Карла. Вебера трясли, обнимали, приветствовали – и он кое-как собирался при этом. Аланд всех, наконец, отправил к машинам, пора было ехать.
Вебер в машине уже уточнил, – они с Анечкой ехали с Агнес и Аландом, – что он, собственно, играет. Аланд перечислил номера сонат – да, это все в руках, в голове, никуда не делось. Вебер и не думал о том, что ему предстоит. Он смотрел и смотрел в глаза жене, улыбался. Целовал ее руку и не мог ее отпустить. И читал на ее лице все тот же, как в первый миг их встречи, немой вопрос. Она узнавала и не узнавала Вебера, но она тоже то и дело приникала к нему, пыталась укрыться в нем, и это было высшей наградой.
Аланд о чем-то переговорил с людьми, что их ожидали, – десятка два каких-то мэтров. И Ленц тоже был здесь. Свои все расселись на галерке небольшого – мест на восемьдесят— зала-аудитории. Клавесин стоял свой.
Ничего не объявлялось. Он сел к инструменту, поискал в себе настрой, который был связан с тем, что ему сейчас предстояло сыграть.
Мешал дневной свет – не яркостью, а наоборот, каким-то полумраком, – внутренний взор привык совсем к другому свету. Вебер прикрыл глаза, уловил свет более привычный, чтобы больше не напрягать лоб, не щурить глаза. Руки готовы были «изложить» то, что стояло за данной сонатой, – и он чувствовал, как эта соната свяжется и перетечет в следующую, и что это будет странствие в его духовных мирах – которое здесь лишь слегка отзвучит, как отразится.
Он играл, все больше впуская в себя привычных небес. Его душа расширилась до каких-то немыслимых пределов. Сердце его не вмещало той любви, что он вкладывал в эту музыку. Он увидел в ореоле сияний лицо Доменико Скарлатти – словно когда-то он знал этого человека. Он доигрывал последнюю из заявленных сонат, когда он увидел и следующий переход – это была музыка, которой он не только не играл, но и не слышал, и словно из Глаз светящегося Лика мэтра Скарлатти эта музыка переливалась в него. Он сделал совсем незначительную паузу и до того, как зал шелохнулся, ушел в эту новую музыку. Доиграл. Прищурился – нужно открыть глаза. Встал. Сошел со сцены. Сразу к жене, скорее забрал ее – и в коридор, подальше от чужих глаз, – он не мог, не хотел, чтобы эти люди смотрели на его жену в ее беззащитном, прекрасном положении.
– Господин Вебер, останьтесь, – это сказал кто-то из корифеев. Даже эта небольшая группа людей устроила ему, не сговариваясь, овацию.
Вебер оглянулся, но жену не выпустил из объятий.
– Я благодарю вас. Мне нужно покинуть вас, господа, у меня – жена…
Он все-таки вышел с Анечкой, он смотрел ей в глаза, склонялся к ней, и душа его ликовала.
– Но – как? Рудик, ты никогда еще так не играл…
– Потому что я тебя люблю все сильнее… Давай уйдем отсюда. Они все решат и без нас. Меня все устроит.
– Но мы же приехали с Аландом…
В коридор вышли Карл, Гейнц. Вебер был вырван у жены из объятий. Он покорился воодушевлению друзей, поднял руки – «сдаюсь».
– Но – как, фенрих? Как? И что ты сыграл последнее? Это импровизация а ля Скарлатти?
– Не уверен, полагаю – это какая-то из не дошедших до наших собраний соната Скарлатти. Мне он сам влил ее в мозги – прямо на сцене.
– И ты ее повторишь?
– Сейчас? Возможно. Хотя так настроиться я сейчас не могу. Ты лучше меня сейчас ее помнишь, Гейнц, не прибедняйся.
– Да я-то помню… Сейчас приедем, запишу. И ты запиши, Вебер. Я потрясён…
– Аланд тут надолго застрял? Отвезите нас в Корпус. Я хочу домой. Не обещаю, что сразу сяду записывать Скарлатти, но нам нужно домой.
– Не вопрос. Если ты больше тут не нужен. Но надо бы Аланда спросить.
– Не надо. Я тебе так скажу, что не нужен. Поехали.
– Вебер, за возвращение, и за такое чудо, что ты тут продемонстрировал… – сказал с намеком Клемперер.
– Нет, это при Аланде с Агнес, и когда Кох подъедет. Вечером поужинаем, посидим. Мне не надо никакого вина.
– Сейчас-то ты и так подшофе, это понятно. А к вечеру увидим.
Аланд с Агнес вышли почти сразу.
– Неплохо, Вебер. Теперь везде поиграешь. Поехали.
Жизнь вошла в новую колею. Работа в Корпусе опять шла по неумолимому распорядку. Вебер играл концерт за концертом, Аланд гонял его по всей Германии в разные города, с Гейнцем и одного. В Корпусе много времени отнимала «закрытая» работа Вебера, Аланд сам контролировал его тренировки, связанные с физподготовкой, но в медитации Вебера уже не вмешивался.