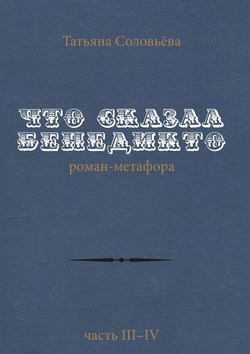Читать книгу Что сказал Бенедикто. Роман-метафора. Часть 3—4 - Татьяна Витальевна Соловьева - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть третья
Глава 64. Репетиция
ОглавлениеУтром проститься с женщинами и Альбертом Гейнц вышел только после того, как его специально позвали, всем едва кивнул, побродил с Альбертом на руках – даже Альберт смотрел на Гейнца с непониманием. Он не привык видеть Гейнца без улыбки, непроходимо молчащим, брал Гейнца за лицо, поворачивал к себе, смотрел и смотрел на него, и с одной стороны, и с другой.
Гейнц простился – и снова затворился у себя. Вебер подходил к его дверям, чтобы обсудить их отъезд, – и не входил, слыша за дверью напряженное выслушивание Гейнцем каждого звука. Этот вид работы требовал от Гейнца какой-то особой концентрации. И было ясно, что в чем-то Аланду во время их ночной игры с Гейнцем удалось его переубедить.
Уезжали Аланд, Карл, Кох – Гейнц опять вышел, как через силу. Пожал всем руки и убрался к себе, возобновив свое занятие. Вебер ждал его до полуночи, и все-таки решил зайти. Гейнц воспринял вторжение Вебера без энтузиазма.
– Надо уезжать. Аланд просил, чтобы уже завтра тут никого не было.
– Завтра и уеду. Поезжай.
– Завтра наступило, Гейнц.
– Утром уеду.
– Ты поедешь к себе?
– Разумеется.
– Я надеюсь, ты на меня не рассердился?
– Нет. Просто работы много. Ты не понимаешь, фенрих, как он это играл…
– Аланд?
– Разумеется. Я не понимаю. Мне не поймать этот звук. Как он это делает?
– Он не сказал тебе как?
– Он сказал – поищи. И сказал, что ты знаешь. А как ТЫ можешь это знать? Ты скрипку в руках не держал.
– Он тебя дразнил, Гейнц. Не заводись.
– Но скажи мне – как? Почему от его звука меня прошибает до дрожи. А я?.. Это все лепет, фенрих. Это совсем не то. Ты торопишься?
– Нет, я жду тебя. Я думал, что ты поедешь ко мне.
– Поиграешь со мной? Фенрих, я понятия не имею – как и откуда ты можешь это знать, но он не шутил. Я помню твой концерт для двадцати музыкальных идиотов, – куда тебя там черти до февраля уносили – но ты тогда играл не так, как всегда. Где ты был, что он тогда сделал с тобой? Уже год прошел, но ты с тех пор так прежним собой и не стал. Понятно, что пока ты носился с пеленками – ты вроде бы стал попроще. Но это в тебе никуда не делось. Он мне так и сказал, чтобы я перед тобой носа не задирал, что про звук на данный момент ты знаешь куда больше, чем я.
– Гейнц, я никуда не уезжал, все это время я был в Корпусе, это была интенсивная медитация, просто тогда Аланд не хотел, чтобы кто-то об этом знал.
– Он меня как кастрировал сегодня. Вообще голос пропал, не звучит. Понимаешь, ничего не звучит, пустота.
– Тебе кажется, Гейнц. Я много раз приходил к дверям, слушал тебя – это великолепный звук. Это очень хорошая музыка.
– Это все лепет, Вебер. Это не звук. Сядь, сыграй со мной. Я попробую сыграть от начала до конца…
– Гейнц, может, тебе наоборот стоит прерваться, ты переиграл? У тебя даже глаза воспалились.
– Не знаю, с чего им воспаляться. В ноты я не смотрел. Сонаты Генделя я переиграл пацаном. Я не устал. Тебе что, трудно?
– Нет, я с удовольствием поиграю с тобой. Давай пока вообще не будем разбегаться по сторонам, во всяком случае, ты всегда сможешь послушать меня, я тебе подыграю, если нужно. Где ноты?
– На полке. Фенрих, но что может дать мне смотрение в пустоту? Я должен искать звук.
– Ты должен его слышать, Гейнц.
– Я его слышу. Я не слышу его при звукоизвлечении. Он не тот, что я слышу внутри. А мне послезавтра играть.
– Ты хорошо сыграешь, ты даже не думай про это. То, что ты собой недоволен, – так я еще никогда не видел, чтобы ты был удовлетворен своей игрой. Это всегда так было. И мне всегда понятно, что я не сыграл так, как это могло бы прозвучать.
– Я еще играю – черт знает с кем. Почему не с тобой?
– Я не знаю. Я думаю, Аланд специально пытается ввести тебя в консерваторские круги – тебе там преподавать. Я слышал, что твой концертмейстер – молодой и очень талантливый парень. Вряд ли он сыграет плохо. Учат же их там чему-нибудь.
– Не знаю. То, что я там слушал несколько раз, пока с Аландом болтался, – это все чушь, фенрих. Этому и учиться не стоит. Завтра к одиннадцати я должен быть на репетиции, вроде договорились сыграться хоть накануне. Я просил раньше, мне сказал Ленц, что в этом нет необходимости. Как ее может не быть?
– Но это профессиональные музыканты, Гейнц. Играть – их профессия.
– Как латать сапоги. Понимаю.
Даже говоря с Вебером, Гейнц оставался где-то далеко, он слышал Вебера – и не прекращал своего выслушивания пространства, Вебер хорошо знал этот полуотсутствующий взгляд Гейнца. Но играл он, с точки зрения Вебера, удивительно хорошо. Вебер сам невольно осторожничал над звуком, боясь нарушить гармонию Гейнца, сам поддался его парению над звуком. Вебер успокоенный опустил руки, доиграв сонату до конца. Гейнц бессильно сел в кресло.
– Полная чепуха.
– Нет, Гейнц, это было хорошо. Поехали домой. Тебе надо отдохнуть.
– Поезжай.
– Поехали вместе.
– Аланд приказал тебя во всем слушаться.
– Перестань. Ты сам напросился на то, чтобы он наговорил тебе не того, что ты хочешь. Поехали, Гейнц.
Пока Вебер на скорую руку пытался приготовить ужин, Гейнц заснул прямо в кресле, вид его был усталым и недовольным даже во сне. Вебер тоже решил, что просто выспится. Последние дни до сна все не доходило.
Проснулся он оттого, что Гейнц, уже умытый и бодрый, растолкал его на разминку. Было шесть утра.
– Поехали к озеру, фенрих. Можно было вчера не уезжать. Никакого смысла не было в нашем перемещении.
– Почему никакого – мы выполнили приказ Аланда, какой еще тебе нужен смысл?
– Здравый, фенрих. У Аланда тоже бывают с этим проблемы. Он стареет – как бы он там ни хорохорился. Он чудит иногда, да и сдает в последнее время просто на глазах.
– Перестань, Гейнц. Но я вижу, что у тебя хорошее настроение. Я рад.
– У меня ужасное настроение, фенрих. Я даже утоплю тебя в озере.
– Слава Богу. Поехали. Тогда я и умываться не буду.
– Это было бы нерационально.
К их удивлению, ворота Корпуса были открыты, за воротами были посторонние люди. Какие-то рабочие грузили строительные материалы.
– Видишь, Гейнцек, как хорошо, что мы уехали, – нас хоть камнями не завалили.
– Что там происходит?
– Аланд сказал, что это не наше дело. Все, что им не нужно, они не увидят. Все убрано и закрыто, что не предназначено для посторонних глаз.
– Аланд что-то строить собрался?
– Судя по тому, что мы видим, – да. Он говорил, что будет что-то достраивать. Поживем-увидим.
– Даже к турнику не подойдешь.
– Он сказал вообще здесь не появляться. Пошли, просто разомнемся – вдали от посторонних глаз.
– И как долго все это будет длиться?
– Я так понял, что когда вернется моя жена, это будет знак к возвращению в Корпус. Для них с Алькой дом там.
– Да и для меня тоже он там. Пойдем. Я не могу этого видеть. Я вообще перемен не люблю, фенрих.
– А сам их просишь. Зачем тебе тогда дальние гастроли, Гейнцек? Рим сюда не приедет. Да и Лондон – вряд ли. Для меня так и Мюнхен – у черта на рогах. Какая разница, где играть.
– Никакой. Вот без турника – да, проблемы. Еще подтянуться можно, если ветку покрепче отыскать, а всерьез не размяться.
– Без турника разомнёмся или к Гаусгофферу попросись.
– Гаусгоффера мне только не хватает.
Но все-таки с утра Гейнц был куда веселее, бодрее, и отправился на репетицию в довольно приподнятом состоянии духа.
Он приехал к одиннадцати, как договаривались. Минут через десять подошел Ленц. Еще четверть часа спустя подошел долгожданный пианист. Гейнц уже был вне себя от возмущения, что опоздание столь велико, а маэстро явно не торопился. Невысокий. Жидкие, даже с виду как пух, мягкие волосы, узкое, тонкое лицо с узким носом, глаза – будто и карие, но – светлые, водянистые, и заранее надменная улыбка-усмешка на тонких губах.
– Доброе утро, это с вами я играю, господин офицер?
Мундир Гейнца был поводом для иронии, и извиняться за опоздание пианист не собирался. Ленц, чувствуя недоброе в пристальном взгляде Гейнца, повел их в свободный класс.
– Что играем? – продолжал беседу пианист.
– Завтра концерт – вы не в курсе, что вы играете? – уточнил Гейнц.
– Мне все равно, – продолжая беспечно, весело улыбаться, пожал тот плечами.
– Гейнц, Клаус – профессионал, он сыграет все что угодно, – попытался сбить напряжение Гейнца Ленц.
– Сонаты Генделя, – ответил Гейнц Клаусу.
– Клавир принесли?
– Это не совсем клавир, Клаус, это написано для двух инструментов, оба инструмента важны.
– Это понятно.
Гейнц протянул ему ноты, тот зачем-то повертел их, полистал и опять спросил:
– Что играем?
– Генделя, – повторил подчеркнуто сдержанно Гейнц.
– Ясно, что не Моцарта, я спрашиваю – какие номера?
Гейнц назвал номера сонат, раскрыл скрипку, тронул рояль, поморщился на опущенный строй.
– Здесь будем играть?
– Нет, в зале.
– Там нельзя сыграться?
– Там занято.
– Господин Ленц, здесь рояль опущен почти на полтона.
– Так вы подстройтесь, – посоветовал Клаус.
– Для вас не принципиально – ля это или уже почти соль-диез?
– Мне все равно.
– А мне нет.
– Играть приходится на любых инструментах. Вы готовы?
– Господин Ленц? Вы уверены, что вы хотите, чтобы я здесь играл?
– Гейнц, не ребячься. Подстрой скрипку.
– Это скрипка – Аланда. Я не могу заставлять инструмент играть фальшиво.
– Гейнц, брось аландовские фокусы. На это тут никто не обращает внимания. Строй скрипку.
– Где зал, в котором мы будем играть?
– Первая дверь за лестницей на этом этаже.
Гейнц вышел и вернулся возмущенный еще больше.
– Зал пуст, и – как ни странно – рояль там прилично настроен. Идемте туда.
– Гейнц, там с одиннадцати тоже какая-то репетиция.
– Значит, у них одиннадцать так и не настало, хотя уже половина двенадцатого, или там все уже закончилось.
Гейнц пошел в зал. Ленц, переглядываясь с Венцелем, пошли за ним.
Венцель сел за рояль, подпер щеку ладонью, глядя на Гейнца почти с состраданием. Видя, что Гейнц готов, Венцель, наконец, открыл ноты, прищурился, вглядываясь в них, взял какие-то пробные звуки и опять посмотрел на Гейнца.
– Готовы? Я начал, – сообщил он.
Он начал – и при этом что-то спросил у Ленца о какой-то ученице, Ленц отвечал ему. Игра сама по себе – разговор сам по себе. Гейнц так и не поднял скрипку на плечо.
– Вы пропустили свой такт, – напомнил Венцель. – Еще раз? Возьмите ноты, господин скрипач, раз забываете.
Разговор Ленца и Венцеля возобновился. Переиграв пару нот, неверно взятых, Венцель снова дошел до четвертого такта и посмотрел на Гейнца уже с недоумением.
– Вы вступаете… И…
У Гейнца темнело в глазах.
– Я знаю, где я вступаю, ты замолчать не можешь?
– Вам это мешает? Мы же просто сыгрываемся…
– Венцель, рот закрой. Начни сначала и попади хоть раз по всем нотам.
– Я не понял, – улыбка Клауса Венцеля стала остро недоумевающей. – Что за тон? Ты не на плацу, солдафон. Я пианист, а не ефрейтор, чтобы ты повышал на меня голос. Я понятия не имею, почему я вообще должен с тобой играть? Ты и скрипку в руках держать не умеешь. Твоему папочке-генералу захотелось тебя потешить?
– Я переломаю тебе все твои щупальца, Венцель, если ты еще хоть раз сыграешь мимо, – сказал Гейнц. – Тебе в ноты и на клавиатуру надо смотреть, не дыша, до расходящегося косоглазия, раз с листа играть не умеешь, а дома Бог часу не дал выучить.
Венцель, усмехаясь уже оскорблено, поднялся из-за рояля.
– Сядь, – приказал ему Гейнц. – Замри и слушай меня. Господин Ленц, не отвлекайте этого косорукого недоумка, если не хотите, чтобы он вышел отсюда через окно. Тебе никогда не говорили, Венцель, что это вообще исполнялось на клавесине? Тут и в помине нет того, что ты играешь. Пиано и форте у тебя —перекличка и отражения, они отражаются друг в друге. Крещендо и диминуэндо – у тебя нет вообще. Ты всегда здесь и сейчас. Можешь звучать, можешь себе самому откликаться. Движение, динамика – у меня, ты земля и небо, а облако – это я.
– Он бредит? – ошалело оглянулся на Ленца Венцель.
– Господин Ленц, подержите, пожалуйста, мою скрипку.
Гейнц отдал скрипку, переместил Венцеля за шиворот на соседний табурет и сел к инструменту.
– Смотри, слушай и запоминай.
Венцель хотел встать, но Гейнц начал играть его партию – и он как-то обреченно снова плюхнулся на табурет.
– Ты понимаешь, о чем я с тобой говорю? – уточнил Гейнц.
– Да, я понимаю… Я как-то не обращал внимания, – без прежнего гонора ответил Венцель.
Он попытался заиграть еще раз и сам остановился.
– Нет, у вас как-то иначе все это звучит, я не понимаю, почему, – безнадежно оборонялся усмешкой Венцель. – Может, мы еще раз начнем, господин скрипач?
– Меня зовут Гейнц Хорн.
– Как Гейнц Хорн? Это вы Гейнц Хорн? Вы друг господина Вебера?
– Я друг господина Вебера.
– Черт, как же я не подумал… Это же – Аланд… Ну конечно, стал бы он еще за кого-то просить. Он не сказал, с кем играть… Господин Ленц, но вы-то что? Вы не могли мне об этом сказать? Вы же знали…
– Я знал. Ты не спрашивал. Мог бы, конечно, в ноты взглянуть, Клаус. Дело не в сложности нотного текста, а в том, чтобы эту музыку осмыслить.
– Господин Хорн, ваш генерал попросил меня две недели назад, чтобы я сыграл на концерте с одним скрипачом Генделя. И он мне заплатил. Но я не думал, что играть надо с кем-то из его… С кем-то из звездных… Думал – просто нужен концертмейстер, поиграть, и я не думал, что концерт – с вами.
– Теперь можешь начинать думать. Или хотя бы начни играть, – а думать будешь еще сутки – столько осталось до концерта.
– …Но я не могу с вами играть! – Венцель сыграл пару частей и сам встал из-за рояля. – Я не буду! Я не могу. Я не тяну – это все ваш чертов Аланд! Я верну ему его деньги!..
– Через два года вернется – отдашь. Клаус, сядь рядом, дай свои щупальца, не бойся, ломать не буду, где есть раскаянье – там есть надежда. Господин Ленц, для вас не будет обидно, если я попрошу вас положить мою скрипку в футляр и оставить нас на час?
– Нет, в зал уже пришли, зал занят. Пойдемте, – ответил Ленц.
Венцель взял ноты и пошел к дверям, а Гейнц, сразу обратив внимание на скрипку в руках одного из входящих, сел в зале.
– Можно послушать? Наша репетиция, я так понял, закончилась…
– Кто вы такой? И что вы в военном мундире здесь делаете? – строго спросил у Гейнца пожилой человек – педагог или концертмейстер вошедшего скрипача.
– Я здесь завтра играю… Но играть я буду во фраке, можете не переживать.
– Кто это такой? – пожилой переадресовал вопрос Ленцу.
– Это Гейнц Хорн.
– Аландовский… Выйдите отсюда вон, – сказал он Гейнцу категорично.
– Как вам угодно, – Гейнц с полупоклоном поднялся и вышел.
– Венцель, можешь отдыхать. Я Вебера попрошу. Будем надеяться, что он не откажет. Клавесин можно привезти свой?
– Как хочешь, Гейнц, но ты зря, Клаус хорошо бы завтра сыграл, – возразил Ленц, очень огорченный.
– Не уверен. Если, конечно, вы не научились колдовать, господин Ленц. Или, может быть, Клаус, ты как раз виртуозно играешь на клавесине?
– Нет, господин Хорн. Пробовал, но – не моё, – тихо ответил Венцель, пряча глаза.
Гейнц поехал к Веберу.
– Фенрих, ты завтра играешь со мной, – сообщил он с порога.
– Почему? Пианист не понравился?
– Я тебе говорю, что у Аланда не все дома. Знаешь, кто мне должен был аккомпанировать?
– Кто?
– Клаус Венцель, это племянник Агнес, которого сам Аланд на дух не выносит.
– Стал бы он его просить, Гейнц, с тобой играть, если бы не выносил его на дух. Я не знал, что у него есть племянник.
– Не у него. У Агнес. Но ни имени, ни чем занимается – мне дела не было.
– Так с чего ты взял, что это он?
– Не знаю, он что-то такое сказал – я все понял. Вебер, я все понял, я сам перед Аландом так выделывался – что мне Гендель, я его сто лет назад переиграл всего, пока Аланд мне пару сонат не сыграл…. Вебер, пожалуйста, сыграй завтра со мной. Клавесин возьмем свой, сегодня еще есть время поиграть.
– Гейнц, раз Аланд выбрал его, то не просто так.
– Да я уже понял, зачем он вчера мне все это устроил. Вебер, если бы Венцель мог сыграть, я бы тебя не просил. Я вообще тебя никогда ни о чем не просил. Тебе трудно?
– Это как-то нехорошо, Гейнц.
– Нехорошо, если я завтра на сцене его побью.
– Ладно, Гейнц. Не заводись. Ленц разрешит?
– Уже разрешил.
– Гейнц, у меня своих программ навалом. Я сыграю с тобой, только чтоб это не стало правилом.
– У тебя концерт через неделю, я тебя натаскаю, если ты думаешь, что ты не успеешь. Не хочешь – не надо, но с Венцелем я играть не пойду.
– Давай завтра решим, кто пойдет на сцену. Я поиграю с тобой, но лучше б ты Венцеля этого сюда приволок и все ему растолковал. Он у тебя там не один раз заявлен в программах. Аланд не мог тебе поставить пианистом полного дурака, Гейнц.
– Ничего до завтра там измениться не может. Не говорю о том, что о клавесине этот блаженный отрок вообще не имеет понятия.
– Гейнц, давай поиграем до ночи – я договорился, что на ночь я занимаю орган.
– Завтра можешь поехать. Давай поиграем, не мешай все в кучу, а то, что будет в твоей голове?
– Ничего, я пока на орган не буду настраиваться, просто съезжу, позанимаюсь.
– Делай, что хочешь. Будешь готов – зови меня. Я вижу, что ты уже на меня рассердился. Но знал бы ты, как рассердился я. Мало того, что он понятия не имел, что играет. Он с листа играет – кое-как. Да они еще с Ленцем и болтали во время игры. Я такого не видел.
– Ничего я не рассердился, Гейнц. Но я же не буду все концерты с Венцелем – дублировать его.
– Почему нет? Может, Аланд для того его и поставил, чтобы ты побольше поиграл. Уж он-то точно знал, что я с ним никогда играть не буду.
– Ладно, Гейнц, ты ноты там оставил?
– Венцель забрал с перепугу.
– Не надо, я помню. Может, и здесь найдем, тут хорошая библиотека – Генделя видел.
– Вебер, почему тебя так огорчает моя просьба?
– Не знаю. Потому что тут что-то не так. Просто работы много.
– Я кофе выпью. У меня уже под коленями холод – двое суток, если не больше – все одни только великие дела. Я быстро, Вебер. Меня тошнит от всего, что я там увидел.
– Поешь нормально. Если тебе надо отдохнуть от всего этого – позови меня сам. Я посижу час-другой. Ты словно принес на себе какую-то дрянь оттуда.
– С головы до ног ею обвешан, Вебер. Я тебе о том и говорю. Какой-то фраер профессорского вида даже к форме придрался и выгнал меня вон из зала. Оказывается, офицер – это стыдно, это плебейство, даже своего заморыша-скрипача мне послушать не дал. Сообразил, что я «аландовский», – это у них ругательство, Вебер. Так что просто не будет.
– Нас хорошо принимали.
– Потому что Аланд в зале сидел. Посмотрел бы я на того из них, кто при нем бы о нем дурно отозвался. А в его отсутствие…
– Ты о нем тоже, Гейнц, как-то без должного пиетета. Ты сам мне раньше не позволял о нем отзываться в сниженных тонах, и мне странно сейчас бывает слышать, когда ты о нем черт знает что говоришь.
– Я не понимаю, что он затеял. К чему этот общий разъезд? Зачем он Карла потащил на аркане? Куда он Абеля услал? Чего в Корпусе не хватало? Ему пришло в голову все разрушить – зачем?
– Аланд знает зачем.
– А ты?
– Я ему доверяю, пока он еще ни в чем не ошибался. И я не хочу обсуждать его действия.
– Тебе приятно, что твой сын и жена от тебя уехали?
– Так нужно.
– Кому нужно? Я бы с Карлом играл – и не обременял бы тебя.
– Карл в Генделя не влезет, он туда не поместится.
– Много ты понимаешь! Карл стал очень глубоким музыкантом, мне с ним лучше, чем с кем-либо, играется. Это для тебя он остался шумным клоуном, а он совсем другой, он за последние годы сильно переменился – я по игре его это чувствую. Мне, честно говоря, с вами со всеми стало сложно общаться. Вы все какие-то – то ли мудрые, то ли мутные. Все время чувствуешь, что вы что-то недоговариваете. Что Абель, что Кох, что ты. Говорить-то можно было только с Карлом, ну, еще твоя Анечка. Еще сестренка – если, конечно, Коха нет рядом. Кох для нее всё затмил – что она в нем нашла? Даже Абель был лучше, он хоть повеселиться умел. А Кох – единица ходячая. Я все жду, когда сестренка следом за ним начнет самолетики рисовать и из бумажек сворачивать.
– Ты несправедлив к нему, Гейнц. Интересно, ты с Кохом давно играл?
– Уже не помню. Он все сам по себе или с Аландом. За закрытыми дверями.
– А я с ним играл. Вернется – сыграй с ним. Ты поймешь, как ты на его счет ошибаешься. Карла я тоже всегда любил и люблю. Если ты говоришь, что он стал созерцателен в музыке, то тем более Аланд прав – ему пора заниматься всерьез медитацией. Он всегда ею пренебрегал.
– Это не его и не мое. Я понимаю медитацию как способ расслабиться – если она заменяет мне сон, или сосредоточиться и очиститься от всего лишнего – если мне нужно настроиться на сложную работу, и все. А вот в игре – я времени не ощущаю. Я ухожу в какое-то непередаваемое словами чувство парения, расширения – я даже не знаю, как это назвать. Это не имеет названия. Но это высшее состояние, Вебер. Это то, ради чего и чем я живу. Тибет мне для этого не нужен – ладно, Аланд хоть это понял.
– Аланд тебя не может не понимать. Когда он мне о тебе говорит – у меня щемит сердце, насколько он любит тебя, Гейнц. Аланд просил тебя перед отъездом уделять медитации побольше времени. Он бы тебе помог. Даже оттуда.
– Даже настаивал. Даже запугивал. Утверждал, что без нее все пойдет в тартарары, что я не потяну.
– Послушайся его, Гейнц. Ты сам знаешь, Аланд зря не скажет. Не будешь так вспыхивать и заводиться с пол-оборота. И на меня перестанешь сердиться.
К еде Гейнц едва прикоснулся. Вебера он позвал вечером, сыгрались, и Гейнц затворился в комнате один. Вебер уходил поздно, Гейнц играл. Вебер постучал к нему, чтоб проститься до утра, Гейнц кивнул и отвернулся опять, словно вышел в другую комнату, так и не отвлекся.
Вебер улыбнулся: Гейнц вернулся в хорошее рабочее состояние, и ему самому следовало пойти поработать. Концертная программа Вебера начиналась серией органных концертов. В Школу Музыки Вебер не очень стремился, а в храм, где Аланд договорился на счет его ночных занятий, его пропустили без всяких вопросов, просто вручили ключ и сказали, что он может оставить его у себя, не передавая, разумеется, никому. Аланду верили.
Игра в храме для Вебера так и осталась игрой то ли с Абелем, то ли для Абеля. Абеля он не видел, позывные ему не слал, раз Аланд просил его не тревожить, но стоило ему разыграться в полную силу – и он не мог избавиться от чувства, что Абель видит, слышит его и улыбается ему так, как он один мог улыбнуться на свете. Ночь таяла, вдохновение не исчезало, только все мучительнее распирало его сердце необъяснимым блаженством. Словно какие-то ворота распахивались перед внутренним взором, словно обрывался бесконечный тоннель – и вспыхивало солнце.
Вебер утомленно поднялся уже под утро, взглянул на часы. Нужно ехать домой, но теперь хотелось сохранить в душе эту тишину и покой, что установились в ней. Его сердце расширялось от странного ощущения огромной любви – не к жене, не к сыну, а любви вообще: ко всем в отдельности и ко всем сразу. От мелькания дорогих лиц в сознании, он чувствовал себя невыносимо богатым, обладателем всех возможных блаженств и сокровищ. И это было трудно вынести.
Он благодарно окинул взглядом посветлевший в рассветных лучах храм, вышел, закрыл за собой двери храма и долго стоял, запрокинув лицо к небу и слушая в себе ощущение огромного счастья.
«Сам себе не завидуешь, Вебер?» – ему припомнился голос Аланда. Он улыбнулся, пошел к машине. Они с Гейнцем прекрасно успеют на разминку. И утро начнется так, как должно оно в Корпусе начинаться.
Гейнц встретил его у дверей.
– Не думал, что ты на всю ночь. Я поиграл часов до трех – и что-то такая оторопь нашла. Это ужасно, фенрих. Вообще никого. Хорошо Аланд хоть тебя оставил. Ты каждую ночь будешь уезжать?
– Каждую не получится. Отдыхать все равно надо.
– Поспишь?
– Нет, я думал, что мы сейчас на озеро с тобой поедем, разминку никто не отменял.
– Ты мне не сказал, куда ты поехал, я бы лучше тебя съездил послушать – это просто какой-то кошмар, я думал, что с ума сойду. Непривычно. В Корпусе в какое время не выйди из затвора – на кого-нибудь да наткнешься. А тут… пустота, Вебер.
– Когда меня Аланд из Корпуса выгнал и сюда привез – я тоже долго привыкал. Первый свой вечер здесь предпочитаю не вспоминать – думал, что не переживу. Хорошо, что Абель приехал… Он все понимал.
– А ты меня бросил.
– Я думал, ты так до утра и проиграешь. Ты моего ухода и не заметил.
– Заметил, Вебер. Все заметил. Поехали, в самом деле, неплохо пробежаться. А то тут мигом в Венцеля превратишься.
– Что он тебе так дался, Гейнц?
– Черт его знает. Взглянуть не на что. Как водой нарисован. А перед глазами так и стоит.
– Наверное, ты все-таки с ним перегнул вчера? Странно, что Аланд его в Корпус не забрал. Он вроде всех своих собрал.
– Ну, этот-то точно не его. Я говорю тебе – выстарившийся подросток. Одни его жидкие волосенки чего стоят, весь какой-то жидкий. Водой разбавленный. Я его за шиворот поднял – в нем веса никакого.
– Так все-таки поднял?
– Да я его просто пересадил на другую клумбу, чтобы он за роялем места не занимал.
– Бедный Венцель, – Вебер засмеялся, представив эту картину. – Он на Абеля похож?
– Спятил, что ли? Абелечек – махина. Это когда он болел – чуть сбросил. А вообще – Абеля с места не сдвинешь. Даже с Кохом драться не так было сложно, как с нашим чухонцем. Пока я был помоложе – он меня как щенка мог за пазуху сложить. Пришло мне как-то в голову ему подерзить, – он меня как засранца отшлепал и в снег усадил, чтоб синяков не было… Абелечек-то он с виду только всегда был Абелечком. Кох из себя никогда не выходил, а Абель мог – и беги, куда хочешь.
– Может, твой Венцель вчера все понял – и тебя поразит сегодня великолепной игрой…
– Ты все мечтаешь от меня отделаться?
– Да я уже не мечтаю, Гейнц. Как идет – так идет. Поехали, времени много…