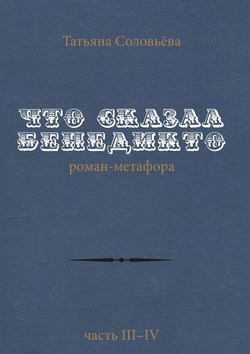Читать книгу Что сказал Бенедикто. Роман-метафора. Часть 3—4 - Татьяна Витальевна Соловьева - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть третья
Глава 69. Волшебная флейта
ОглавлениеВебер приехал домой под утро. Побросал как попало вещи, – этого он никогда себе не позволял, – повалился на диван, чем-то укрылся и хотел заснуть. Пусть все окажется сном, пустым сном, он проснется, и все будет иначе. Он перенервничал, не рассчитал сил. Столько всего в этот вечер случилось – он не был готов. С точки зрения Агнес, все, что он делал, он делал впустую, потому что издерган и зол. Он разрушает семью – потому что ему не нравится, что Венцель вертится около его жены. Можно сказать, что Венцель и около Агнес, и около Анны-Марии. Но это совсем другое. Венцель почти ровесник Ани, Вебер видел его взгляд на нее. И не вокруг Анны-Марии и Агнес он увивался. Что бы они все ни говорили.
Вся его работа – пышный провал, полное ничто, и у Аланда не уточнишь. Вебер почему-то в своих внутренних экранах ослеп, он стал плоским, выхолощенным устройством переигрывания музыки, пусть он всю душу в это вкладывал и хорошо играл. Крах – значит крах, Аланд и не думал, что Вебер справится с этим. Но попробовать дал. Значит, и медитация его не имела смысла.
Он открыл глаза – по часам он проспал какие-то двадцать минут. Но он хорошо помнил, что видел лицо Абеля, и Абель сказал ему очень ясно – сходи вечером в оперу, ничего завтра не делай. Спи. Валяйся. Читай никчемные книги. Забей голову ерундой. Вечером – в оперу. И будь что будет. Ты хотел отдохнуть.
Вебер сел в кресло. Потом сполз на пол, пристраивая тело, болевшее, как от побоев, в медитацию, – он вроде бы сосредотачивался, настраивался вполне сносно. Но опять видел Абеля, чувствовал, что Абель ему препятствует, что он категорично настроен на то, чтобы Вебер сегодня остановил свою бесполезную деятельность.
Вебер встал, долго лил на себя контрастную воду, пил чай на кухне, понимая, что даже ни о чем не думает, что видит – жену и Венцеля, видит только их, как ни перенастраивает себя на Альку, на концерт, на Алькин поцелуй и упавшие цветы. Почему-то все, что связано с Алькой, только переворачивает душу, словно всего этого он уже лишился – страхи, и остается только Венцель, и рука жены – на его руке.
Как-то удалось заснуть – и проснулся Вебер, когда солнце уже на картине неба изображало полдень. Проснулся не потому, что выспался, а потому что кто-то настойчиво звонил в дверь. Вебер, придерживая разрывающуюся голову рукой, чуть разгладил у зеркала лицо, повторил пару раз «сейчас», открыл и удивленно отступил вглубь квартиры – меньше всего он ожидал увидеть Анну-Марию.
– Ты спал?
– Голова болит. Я сейчас приведу себя в порядок… Вчера переволновался.
– Про вчера потом поговорим.
Ничего хорошего эта головная боль не сулила, опять эти тиски и каленые иглы. Почему вчера все это случилось? Он спокойно работал. Ропот, если и был, – Вебер в себе подавлял. Он знал, что работал на пределе своих сил. Почему же вчера Агнес все перечеркнула, свела к нулю? Она не от себя это говорила. Это Аланд недоволен им. А как понять Фердинанда? Сон мог быть именно сном, пустым сном, воплем подсознания и требованием тела о передышке. Концерт через три дня – редкий случай. День отдыха, чтобы остановить нехорошую боль в голове, у него есть. Анна-Мария зачем-то приехала, может, ее пригласить вечером в оперу? Что там идет, интересно?
Он вернулся на кухню, немного посвежевший под душем, даже шипение в голове стихло. Анна-Мария говорила про концерты, предложенные ей Ленцем. В том числе и концерты для двух фортепиано – ясно, что с Вебером. Это уже почти ничего не меняло, с Анной-Марией играть хорошо, Вебер кивал, со всем соглашаясь.
– Не знаешь, что сегодня в опере? – спросил он.
– Волшебная флейта. Ленц же вчера приглашал, говорил, хорошо поют.
– Сходим сегодня с тобой? Мне надо отвлечься.
– Почему ты вчера отказался? Ленц предлагал билеты.
– Кому предлагал?
– Всем. Анечка с Венцелем идут. Мы их там встретим – они обрадуются.
Вебер каменно усмехнулся.
– Приятная встреча. Почему-то меня никто не пригласил. Даже моя жена. И часто они с Венцелем ходят по театрам?
– Пару раз ездили – один раз с Агнес, один раз мы ездили втроем. А что?
– Ко мне не заехали…
– Мы ездили не в Берлин.
– Откуда он взялся, этот чертов Венцель?! – Вебер врезал рукою в стол.
– Рудольф, что с тобой? Не выдумывай. Всё у всех на глазах.
– У меня – не на глазах.
– Рудольф, это нехорошо – то, что ты думаешь.
– Анна-Мария, это мне нехорошо. Мне очень нехорошо. Я его убью, если он подойдет к моей жене. Я его убью, и никогда не пожалею об этом. Я никому ее не отдам. А этот поганый заморыш… откуда он взялся??
– Это непонятная ревность, Рудольф. Ты сам позвал его. Ты сам пригласил его играть, он работает по двенадцать часов в день за инструментом, у него нет времени на глупости. Он прибился к нам, он в полном восторге от тебя, он не может поступить так, как ты думаешь. Перестань немедленно. Веди себя достойно.
– Но ты же не ездишь по театрам, ты спокойно ждешь, пока Вильгельм вернется. Зачем ей это надо?
– И я с ними ездила. Она молодая, Рудольф. Ей трудно только ждать и ждать тебя. Нет ничего особенного в том, что два культурных человека идут в театр. Мы все свои, нам приходится подставлять друг другу плечо.
– Мне его плечо не нужно, а ей – тем более. И тебе оно не нужно.
– Рудольф, когда-то мне тоже было это интересно. У нас у всех уже столько всего в жизни было – а у них еще ничего не было, им интересен театр, чужие страсти. Сам будь мудрее. Ты старше, опытнее, ты много всего видел и перечувствовал в жизни. Но Моцарта мы с тобой тоже с удовольствием послушаем вечером, с ним даже у нас с тобой много связано очень и очень личного. Правда? Ты успокоился? Рудольф, посмотри на меня своим взглядом – своим, а не взглядом загнанного зверя.
– Да, Анна-Мария. Да. Хорошо. Давай, я вечером заеду за ними, за вами – я всех привезу сам. Пойдем все вместе. Я приведу свои мысли в порядок, я тебе обещаю. Раз я устроил себе выходной…
– Туда съездишь, назад – это шесть часов. Потом еще разок… Они приедут. Лучше съезди со мной к Ленцу. Надо обговорить детали, уточнить даты – без тебя этого не сделаешь. Ленц билеты нам организует – будем сидеть все рядом.
– Но если не рядом – я надеюсь, что ты сможешь посидеть с Венцелем?
– Конечно, Рудольф, ты будешь сидеть со своей женой, что ты как маленький. Тебя как подменили. Ты вчера был так хорош на сцене, а вечером – был уже несносен. Поедешь к Ленцу?
– Если нужно, то да.
– Рудольф, скажи мне честно, почему ты собрался сегодня вдруг в оперу? Вчера ты категорически не хотел туда идти.
– Вчера я не помню даже, что об этом вообще говорили.
– Почему ты решил пойти? Только очень честно. Смотри мне в глаза.
– Мне приснился Фердинанд. Ни разу не снился, а тут – очень ясно. Он мне сказал – ничем сегодня не заниматься, а вечером непременно отправиться в оперу. И видишь, не зря.
– Тогда лучше не ходи. Я сама схожу с ними, и я тебе обещаю, что потом мы заедем к тебе. Хорошо?
– Нет, я пойду.
– Рудольф, не нужно этого делать – ты знаешь Фердинанда, он втянет тебя опять в какую-нибудь историю, и ничем хорошим это не кончится.
– Когда-то ты была о Фердинанде другого мнения.
– Я и сейчас о нем очень высокого мнения, но мне не нравится твое состояние. Ты себя не контролируешь, ты устал и почти болен. Абель спровоцирует тебя – тебе станет легче, но какой ценой?
– Пусть так и будет. Это моя жена. Я за нее отвечаю. Я понимаю, что с вашей точки зрения, ее не в чем упрекнуть, что она мне не изменяет, так и не надо до этого доводить. Я посмотрю сам. Я сам все увижу – и тогда будет понятно, есть о чем говорить или не о чем.
– Не о чем.
– С твоей – не о чем, а с моей – так уже караул кричи. Анна-Мария, это моя семья. И я сам буду решать, что мне делать.
– Рудольф, я поеду к Ленцу, а ты сядь, приведи в порядок свои мысли… Ты знаешь, что делать.
– Нет. Я поеду с тобой, завезу тебя домой – а потом посижу. Перед спектаклем я заеду за тобой, раз уж за ними нельзя…
– Успокойся. У Ленца есть график твоих выступлений наверняка – или дай мне свой и мы с Ленцем подумаем, что куда вставить… Рудольф, пожалуйста, послушайся меня. Не надо тебе туда ходить. Хочешь, я позвоню им и попрошу их тоже не ехать? Не надо никакой оперы. Или ты иди, а мы не пойдем.
– Нет, пусть идет, как идет, я хочу для себя все решить. Они не поймут, с какой стати им отменять такое культурное событие. Анна-Мария, я обещаю тебе, что к вечеру я буду абсолютно спокоен. Я и сейчас почти успокоился. Потому что самое плохое – это то, что я чувствую сейчас, я не смогу ничего делать.
– Ты вбил себе в голову несусветную чушь, ты оскорбляешь своими мыслями свою жену. Ты упрямишься, и ты будешь долго расхлебывать то, что можешь сейчас натворить.
– Ты не понимаешь, на что посягнул этот грязный развратник…
– А полтора месяца назад ты говорил, что Клаус хороший парень, и он тебе очень нравился.
– Я не знал, что он такой негодяй.
– Видишь, ты говоришь, что хочешь разобраться. А сам все решил. И решил неправильно.
– Поехали к Ленцу. Я сам во всем разберусь.
– Не во всем надо разбираться. Иногда просто полезнее доверять полностью человеку, которого ты любишь. Ты усугубишь ситуацию сам, сделаешь хуже. Ты доверял всем своим друзьям, ты не ревновал ко всем подряд, когда все с Аней бродили по театрам во время твоей медитации, тебе не приходило в голову ревновать. А для нее Венцель – такой же твой друг, как Гейнц, Карл, Вильгельм…
– С чего бы это?
– Ты сам привел его, сам назвал его своим другом. Он племянник Агнес. Он наш – это все понимают.
– Я не понимаю. И ты, Анна-Мария, прекрасно знаешь, что Венцель – это не Гейнц, не Вильгельм, это развязный консерваторский ублюдок, состоящий из похоти и богемных замашек.
– Ты слишком быстро и без оснований изменил о нем свое мнение. И именно тогда, когда Клаус отошел от своего круга и приблизился к нам.
– Если я не прав, то я это пойму. Я не сумасшедший.
– Уже похож.
– Думай, как хочешь. Поехали. Время идет – мы ни до чего не договоримся.
Разговор с Ленцем едва касался слуха Вебера, он на все кивал. Видел, что они что-то вписывают в программы – потом можно посмотреть, а пока…
Дома он заговаривал и успокаивал себя, и медитация, как ему казалось, пошла ровно, спокойно. Он встал, собрался – он ни о чем не позволял себе думать, просто смотрел на часы и сам действовал, как механизм. Анна-Мария еще пыталась его отправить домой или хотя бы завести его в фойе, но он стоял у входа и смотрел на подъезжающие автомобили. Он сам помог выйти из машины жене, поприветствовал Клауса. Не глядя в глаза никому, отвечал на обыкновенные вопросы, вел жену под руку. Только Анечке время от времени он засматривался в глаза, пытаясь вычитать ответ на свой вопрос. Анна-Мария села с Анечкой рядом, но Венцель тут же попросил Анну-Марию с ним поменяться и сел по другую руку Анечки, продолжая без умолку обсуждать какие-то театральные новости. Вебер чувствовал на себе вопросительный взгляд жены, крепко держал ее руку в своей и молчал непроходимо.
Отыграли увертюру, пели хорошо, но Аня постоянно чувствовал на себе взгляд Вебера. Зато Венцель с удовольствием глядел на сцену и, не отводя от сцены взгляда, время от времени что-то шепотом комментировал Анечке, иногда склоняясь к самому ее уху, касаясь щекой ее волос. Вебер за спиной у Ани тронул Венцеля и, поймав его вопросительный взгляд, указал ему на выход. Венцель удивленно пожал плечами, кивнул на сцену, но Вебер, не обращая внимания на его немой вопрос, поднялся, шепнул Ане, что сейчас вернется, и направился к выходу. Венцель, все пожимая плечами, пошел следом.
– Ты что, Рудольф? Не мог антракта дождаться? Что ты хотел?
Если бы Вебер мог ему ответить. То, как Венцель естественно, непринужденно касался щекой Анечкиных волос, – просто душило Вебера. И то, как она спокойно, как само собой разумеющееся, это воспринимала, – было концом света. Он заставлял себя делать по коридору медленные шаги, он заставлял себя медленно и спокойно дышать, но внутри только нарастала волна холодного, спокойного гнева.
– Ты меня помолчать вызвал? Вебер, я вообще-то хотел послушать оперу, а не твое молчание. Я пошел в зал, если это все.
– Почему ты пришел сюда с моей женой?
– Но ты же вчера ты не захотел идти. Слава Богу, что пришел, Аня очень хотела пойти с тобой. Мы не знали, что ты передумаешь.
– Венцель, давай ты уйдешь и больше никогда в жизни никуда с моей женой ходить не будешь. Мы разойдемся с миром.
– Я что-то сделал не так? Ты занят, но ей тоже хочется что-то увидеть. Нам с ней интересно вместе пойти в театр, на концерт. Не так много женщин, Вебер, с которыми можно об этом поговорить.
– Уезжай отсюда. Сразу. Не заходя больше в зал.
– Рудольф, ты что, ревнуешь? Но ты сейчас просто смешон. Я тебя уважаю как музыканта, ты мне симпатичен как человек, но ты все более делаешься странным, с тобой невозможно разговаривать – ты никого не слышишь, ты весь в себе. А вокруг живые люди. И я не обязан тебе подчиняться. Аню я еще должен отвезти домой.
– Я сам ее отвезу. Уйди.
– Вебер, у тебя даже взгляд ненормальный. Шел бы ты выспался, тебе эта опера не нужна.
Венцель шагнул к дверям зала, рука Вебера развернула его на месте – и Венцель полетел навзничь. Вебер сложил руки за спиной, он знал, что одного удара Венцелю хватит. За спиною забегали работники театра, Вебер стоял неподвижно, спокойно глядя на Венцеля, так и замершего на полу. Как он и думал, никакое раскаянье, сострадание его не мучило. Над Венцелем склонялись то один, то другой. Все осуждающе, как на изувера, оборачивались на Вебера. Он продолжал стоять неподвижно. Ясно, что сейчас прибежит полиция. Он и не собирается сопротивляться. Венцеля, скорее всего, он убил наповал. Там и убивать нечего – рука сама ударила только вполсилы. Он хотел, чтобы полиция пришла скорее, чтобы его увели отсюда. Но дверь зала отворилась, появилась сначала Анна-Мария, следом Аня. Обе странно посмотрели на него и склонились над Венцелем. Анна-Мария пыталась привести Венцеля в чувство, Аня без конца оборачивалась на Вебера, и взгляд ее – сначала лишь изумленный – наполнялся осуждением. Он понимал, что она его не простит, смотрел на нее неотступно, понимая, что своей рукой убил вовсе не Венцеля, а ее любовь к себе.
Странно, но Венцель со стоном зашевелился на полу. В это же время подошли полицейские. Вебер равнодушно подставил руки наручникам. Аня собирала платком кровь с лица Венцеля, на Вебера больше не оборачивалась. Зато Анна-Мария подошла к Веберу, поздоровалась с полицейскими, но смотрела невыносимо прямо Веберу в глаза.
– Что ты наделал?
– Я сделал то, что должен был сделать. Я не раскаиваюсь, – сказал Вебер, понимая, что уже врет.
– Раскаиваешься. Ты думаешь, она простит тебя?
Он промолчал, потому что самое страшное Анна-Мария уже произнесла.
– А о ней и о сыне ты не подумал? Ты ужасно ударил Клауса.
– Я и думал о них. Надо было сильнее.
– Ты сядешь в тюрьму.
– Мне все равно.
– Абель тебя об этом не просил.
– Он ни о чем меня не просил.
– Что ты наделал, Вебер? Куда вы его поведете? Я подойду в участок – тут надо оказать помощь, – заговорила она с полицейскими.
– Ты можешь не беспокоиться обо мне, Анна-Мария, занимайтесь своим дорогим Венцелем. Если меня отпустят – я его добью, так что не спешите меня вызволять.
– Тебя не для этого учили драться, Вебер. Венцель не мог тебе ответить. А вот Корпус оставлен был на тебя.
Вебер отвернулся.
– …Где этот псих?..
Вебер различил в стонах Венцеля членораздельную речь, усмехнулся.
– Видишь, он уже очнулся. Нельзя жалеть.
– Вебер, ты точно псих!..– шептал Венцель, пытаясь сесть.– Да отпустите вы его… Какая ты скотина, Вебер… – он опять повалился на пол, морщась от разрывной головной боли.
– Видишь, Анна-Мария, он еще и благородный человек, чего обо мне не скажешь. Идемте, – Вебер пошел к выходу, приглашая за собой полицейских.
Он еще пару раз оглянулся. Ждал от Анечки хотя бы взгляда, но она так и не оглянулась.
Ни на какие вопросы в участке он не отвечал, не вникал в то, о чем его спрашивают. Почему он ударил? Разве им объяснишь? Вроде бы гнева в нем было достаточно – и все-таки спасовал, словно кто удержал его руку. Ударил не так, как следовало бы ударить. Не приведи Бог – отпустят. Что он еще натворит, когда она опять отвернется от него. Все перечеркнул. Все, что было у него, – перечеркнул.
Странный кабинет, странные люди, гул в голове, невыносимое ощущение, что от груди оторвали кусок – не сына, не жену, а именно часть его самого, – все горит, все саднит нестерпимой болью. Нужно молчать. Скорее бы все закончилось. Но все это тянулось уже целую вечность. Появлялась Анна-Мария, что-то говорила – он не слушал. Гул в голове нарастал. Откуда-то взялся Гаусгоффер – времени-то сколько? За полночь. Клеменс с ним. Тормошат Вебера, трогают лицо, веки, которые Веберу наконец удалось смежить. Привалился к стене. Конца не будет. Стоило закрыть глаза – видел Абеля. Все тем же – в темном плаще, с тростью, с его спокойно-зовущей улыбкой, прогуливающегося по небесам. Хорошо бы уйти. Только и можно уйти. Но что было делать, Фердинанд? Ты видел, как он щекой касался ее волос, касался губами мочки ее уха? Как все это было стерпеть? Есть вещи, которые невозможно стерпеть. Вебер пытался расслабить тело, уйти в свое вечное убежище – ему незачем возвращаться, он не думал, что все так закончится.
Она не пришла, не оглянулась. Она не простит его никогда.
Вебер вынырнул еще раз, различив голос Венцеля. Тот твердил, что ничего он не будет писать. Что Вебер переиграл себе мозги. Что Вебер полный дурак, что его надо лечить, а не сажать – сажать бесполезно. Голова у Венцеля замотана, под руки поддерживают Клеменс, Анна-Мария. А он тоном праведника доказывает невиновность Вебера. Вебер отворачивался. Жаль, что Аня не видит, какой Клаус благородный. А может, видит? Вебер с трудом обвел комнату взглядом – так и есть, она сидит у дверей, плачет, в сторону Вебера так и не смотрит. А он снова смотрит на нее, не отводя взгляда. Если бы она могла понять, что он терял, что для него значат ее волосы, что такое губами коснуться ее волос. Она не может этого знать, она никогда не поймет, что он хотел защитить. Хоть бы один взгляд. Неужели ни разу так и не взглянет на него? Он смотрел и смотрел. Голоса прекратились, наступило забвение.
Вебера заставляют встать, куда-то повели. Зачем-то сняли наручники, Клеменс и Гаусгоффер сажают его в машину.
– Ну, ты герой, Вебер. Ладно еще, этот молокосос оказался нормальным парнем. К жене что ли приревновал? – говорил Гаусгоффер. – Ты и не служишь у меня, а никакого покоя. Все, дорогой, ты и тут отыгрался. Куда его везти-то, Клеменс? Он не в себе. Сейчас еще начудит чего-нибудь.
– Домой к нему, я у него посижу. Посторожу, пока не опомнится. У него там дома интересная аптека, давно хочу еще раз взглянуть. Поможете мне его уколоть, а то я с ним не справлюсь – и мне надает. Зря наручники сняли.
– Меня что, отпустили?
– Отпустили, отпустили. Придется тебя опять в Академию забирать. А то за тобой не уследишь. Повезли его к нам, Клеменс. Свяжем его там по рукам – по ногам, пока не остынет, и в подвале ему хороший карцер организуем, – Гаусгоффер пытался шутить.
– Как вы узнали?
– Агнес среди ночи позвонила, поехали. Ей я не могу отказать, да и Аланд просил – если что… Кто ты такой, Вебер, объясни? Что мне за дело до тебя? А я ведь тебя, дурака, на поруки взял.
– Ее там не было.
– Кого? – мысль Вебера отставала от речей Гаусгоффера. – Ты про Агнес? Думаю, скоро появится, и я ей помогу тебя взгреть. К кровати привяжу, Отелло чертов, – и ремнем. Пока ревность не выбью. Ишь какой! Ты ж ему мозги едва не выбил. Ты не видел, что там бить нечего? Офицер Аланда – бьет какого-то музыкантишку. Вебер, ты на себя посмотри – как ты мог подумать, что твоя жена тебя променяет на этого зародыша?
– Не говорите со мной.
– Это ты давай помалкивай, ты пока до генерала не дослужился и даже совещательного права голоса не имеешь, не то, что мне указания раздавать.
– Как сердце, Вебер? – спросил Клеменс.
Вебер странно взглянул на него – словно у него еще было сердце. Сердце и вырвали. Вебер отвернулся, прикрыл глаза, Абеля не было – черная точка удалялась на горизонте. Время уходило – если Клеменс что-то уколет, то уйти за Абелем может и не получиться. Нужно как-то собраться. Больше ничего не остается.
«Это папа. Это мой папа». Алькин лепет. Ненужные картины его прежнего счастья. Ощущение невесомого прикосновения ее волос к его щеке, дурманящий запах ее волос, скользящие дуги бровей, от которых невозможно оторваться, коснувшись их губами… Это все, что от него еще осталось. За это он дал бы не только зародышу Венцелю, вмазал бы всему миру – если бы мир на них посягнул и попытался отнять. А он сам все выбил у себя из рук. Абель не понял его или понял? Он пришел и ушел? Он оглядывался, улыбался.
А она – не оглянулась.
– Остановите машину! Давайте его на землю!..У него встало сердце…
Его тело как безвольную тряпку расстелили прямо среди шоссе, его тормошили, лупили в грудь. Он все видел со стороны: это жалкое тело, лишенное чувств и души, больше ему не нужно. Он проведает сына, он виноват перед ним, и в чем – опять не может понять. Он делал все, что он мог, он так их любил, и все вышло опять плохо. Если бы еще он мог так – не оглядываясь – уйти, если бы ему не нужно было видеть и чувствовать на груди тело сына, не нужен был его лепет, не нужно было бы прижимать к сердцу его сумасшедшую, больше его самого, любовь, он ушел бы и не оглянулся. А он все оборачивается, оборачивается, его зовут – и он тянется к голосам, – потому что там жизнь, там он все оставил, там свет, а тут холод и тьма. Нет никакого Абеля. Все это сны. Мрачный холод темной пустоты вместо небес. Ему не нужно туда. Нужно вернуться. Потому что ночь. Или уже рассвет – а он прекрасно видит, что оставшийся один, его сын не спит, а карабкается в кресло, чтобы занять излюбленную позу у окна. Он ждет. Он один не знает, что Вебер преступник, дурак, сумасшедший, что он все потерял – кроме этой любви. Надо вернуться – что бы там ни было. Пусть его никто на земле не простит, – но пока сын его мал, он, как Вебер, умеет любить без прощения.
Вспыхнули яркие оранжевые облака, опять рядом Абель, молчит, улыбается, и молча зовет за собой. Вебер собирается из какого-то облака, становясь вновь собой, тоже как-то движется. Абель идет быстрее – и исчезает. Простор необъятный, грудь задышала, в груди застучал чуть сбившийся метроном. Вебер, как в детстве, стоит и пытается постигнуть этот простор всем своим существом, жадно вбирает его в себя с каждым вдохом. Какая-то череда картин, как в калейдоскопе. Лица, люди, какие-то стены, запахи. Эмоций почти никаких, томление.
Так себя, наверное, чувствует атом, затерянный в вакууме. Вебер видит одновременно и громадные пласты облаков вокруг, и почти сладострастное выражение на лице Клеменса, орудующего препаратами Абеля. Вебер сам не понял, как выбил у Клеменса из рук шприц с препаратом, срезал – как ножом – стекло шприца пополам. Половина шприца у Клеменса – половина отлетела к стене. Не надо в него вводить ничего. Сердце и так забилось. Вебер машинально разворачивает тело боком – лицом к стене. Только б оставили в покое.
– Опять воюет. Да угомонишься ты, Вебер? Что тебе все не уняться?
Гаусгоффер вроде бы бранится. Клеменс любуется разложенным перед ним на столике врачебным арсеналом, страшно довольный. Сам себе не верит, что Вебера он все-таки вытянул с того света. Пусть думает, что это сделал он.
Интересно, что дальше? Пока разберутся – лучше вернуться в свои просторы. Там не стыдно, там никого не встретишь. Там никто ни о чем не спросит. Наверное, не спросит. Пока не спросит. Потом – потом может быть. Хоть тысячу лет простоит он в своих облаках – в полном недоумении от всего, что с ним произошло. Словно ничего не было – с чего начал, тем и кончил. Осталось только потрясение, ощущение потери и непоправимости. Но душе его нужно опять развернуться, зачем – непонятно. Это нельзя объяснить, но как лицо его само тянется за ускользающим воздухом и попыткой еще раз вдохнуть – так душа его тянется к облакам.