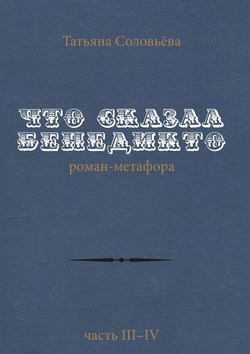Читать книгу Что сказал Бенедикто. Роман-метафора. Часть 3—4 - Татьяна Витальевна Соловьева - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть третья
Глава 70. Сумерки
ОглавлениеВебер открыл глаза и не сразу понял, где он находится. Что-то знакомое. Окон нет. Подвал. Это место его первой длительной медитации. Значит, он в Корпусе. Кто-то вернул его сюда. Наверху стройка, дверь, наверное, заперта. Но ему и незачем выходить наружу.
Тело слабое, но вполне послушное. Вебер долго слезал с кровати, пытался поводить плечами, упереться ногами в пол – даже непонятно, чувствует он себя или нет, – тело как чужое, но команды выполняет. Руки-ноги шевелятся, вроде что-то помнит. В своем уме, жив – и ладно. Вебер медленно обошел комнаты – никого. В зале, где был орган, – пустой порт, нет клавесина, рояля. Полки, где стояли ноты, – пусты. Но на журнальном столике – графин с водой и какая-то деревянная, незнакомая чашка с хлебом. Хлеб мелкими кубиками, засохший, но пожевать бы что-нибудь не помешало, сил совсем нет. Вебер опустился в кресло, взял хлеб, положил в рот – во рту сухо. Графин, наверное, неподъемно тяжелый, но он налил себе в стакан воды и приступил к своей неторопливой трапезе. Размышлял, сколько ему съесть зараз, – вроде, голоден, пить тоже очень хотелось, но пока мял кусочек во рту, пока сделал несколько глотков – понял, что сыт, что жажду он утолил – и полстакана не выпил. Шевелиться не хочется, ни о чем не думается – память о том, что случилось, осталась чувством потери. Всё равно ничего не понял. Так тихо – ни единого звука. И в нем самом – как в детстве, полная тишина. Тишина – это все, что ему сейчас созвучно.
Зачем-то встал, ушел туда, где очнулся, вытянул на постели тело. Видел по пути себя в зеркало. Босой, в одном нижнем белье, волосы – как чужие, отросшие или настолько взлохмачены? Лицо худое и тоже, будто ему не принадлежит. Но то, что он Рудольф Вебер, он себе отчет отдает, а больше тоже не надо. Какая разница, как называется то, что от него осталось. Ничего интересного.
Тело устало лежать. Слез на пол, попробовал подобрать ноги. Ноги – ладно, сложатся, как прикажешь, хребет бы удержать, словно в десяти местах перебитый, так и тянет согнуться дугой или сложиться гармошкой, лицом бы в пол, чтоб ничего не видеть. Полная пустота – и внутри, и снаружи. Главное заставить себя распрямиться – зачем, непонятно, но почему-то это важно.
Кто его сюда принес? Он помнит все, что случилось, в оперном театре. Ни в чем он не раскаялся, и ни у кого прощения он не попросил.
Он спину прямит, а она ломается. Вебер вытянулся на полу и сразу почувствовал тянущий холод – вроде, был июль, а может, уже август, но холод неестественный, лучше перелечь. В полиции его отпустили, от Клеменса забрали. Должны были наказать. Он и сам хотел побыть один.
Если бы Аланд вернулся – что бы ни сказал, все равно, хоть в глаза бы посмотрел – и стало бы легче. А то жизнь в теле есть, а с этой жизнью никакой связи – оторвало и вышвырнуло вон. Что теперь будет? Он станет призраком? Пойдет бродить по свету? Маленькие видят призраков. Значит, Вебер будет бродить у того окна, в которое выглядывает его сын. Потом сын повзрослеет и тоже перестанет его замечать – и тогда он рассыплется. Тогда призрак его сделается ни к чему. Ей он совсем ничем докучать не будет. Наверное, ночи не спит – выхаживает своего битого благородного Венцеля, а тот лежит героем, удивляется глупости Вебера – он-то ничего такого в виду не имел, ну наклонился к ее волосам – не кричать же ему было во время пения на весь зал, конечно, наклонился. Шептал. Что в этом такого? Ведь не в любви ей клялся. Просто говорил о голосах, о певцах, о певицах. Никогда не прощу. Никогда не войду к ним – пусть делают, что хотят. Почему так, Аланд? Зачем все это случилось? Или я должен был смолчать? А ты сам бы смолчал – если бы какой-то пижон так склонился к твоей жене? Ты сам бы не стерпел, не посмотрел бы, что этот заморыш даже не выучился драться, раз он возомнил себя мужчиной, по-мужски пусть и отвечает.
Силы кончаются, Вебер опять поднялся, пошел туда, где хлеб, вода. Хотел перенести всё к постели, уронил сначала графин – вода по полу, графин вдребезги, и чашку выронил, хлеб в воде, а чашке хоть бы что – не разбилась. Не с пола же собирать. Ладно. Тем лучше. Перебьется как-нибудь. Главное заснуть. Тогда силы уйдут во сне. Двадцать семь лет за жизнь цеплялся, и все вдруг выпустил из рук, все разбил. Все, что было. Непонятно, от кого отворачивается – сам от себя. Идет обратно. Носом в подушку, потом лицом к стене. Да куда ни повернись – всюду стена.
«Ничего не могу понять. Сыну потом так и скажут, что я был странный, и потому меня не стало. У Тебя есть, у Тебя всегда есть – другие, понятные, лишенные странности, понятные хотя бы самим себе, хорошие люди. Они ведут понятные разговоры и поступают объяснимо, понятно. Они не расскажут сыну, что счастье у этих людей тоже обыкновенное, как их разговоры, и маленькое – как их чувства. Они никогда не узнают таких потерь, потому что, чтобы потерять огромное счастье – его надо иметь. Мой сын будет обворован и в счастье, и в несчастье. Может быть, самым таинственным чувством будут его встречи с призраком, серой тенью в предрассветном сумраке, это хоть как-то нарушит проклятую обыденность его жизни, ее нормальность, ее бег по кругу. Норма их жизни в непроходимой бессмыслице и отсутствии всего большого, настоящего – того, что не прерывается смертью – хоть как все разбей и отбей в себе. Оно все осталось, оно никуда не уходит, – протяни руку – и вот оно».
Надо встать – ясно, что он и сотой части пути не пройдет, но тело потом опадет, а сам он двинется дальше, продолжит свой путь и все-таки к сыну придет. Это будет последний осознанный путь. Потому что его любовь никуда не делась, меньше не стала, он, то ли уже распавшийся, то ли усохший в мумию, может, уже давно и не живой – что тут поймешь? – он все равно понимает, что он по-настоящему счастлив. Потеря – да, но и то, что он потерял, живет в нем. Это его нет, но то, что в нем было, осталось. Тело может распасться, а любовь – никогда.
Вебер открыл встроенный в стену шкаф – там почему-то только шинель, она очень тяжелая, еле натянул на себя, тогда уж придется натягивать и сапоги – давно уже не «скороходы», а кажется, что тяжелее, чем были в разгар его «скороходных» тренировок.
Надо как-то направить себя вверх, как будто берешь за волосы, как барон Мюнхгаузен, над собою повиснуть – тогда сделаешь шаг и все отмеренные тебе шаги, тело опадет, когда его функции завершатся. Заперта ли дверь? Нажал до упора ручку вниз – открыто. Сразу пахнуло холодом, настоящим холодом, даже запах – мороза, зимы, льда и снега. Вышел на улицу – рукой зачерпнул снег. Настоящий снег. Никакой стройки – тот же плац, те же корпуса – Коха, Карла, Аланда, их с Гейнцем, гаражи, кузница. Все – как было.
В кузнице Гейнца высоко застучал молоточек о наковальню, что-то очень мелкое выстукивает. Затих.
Сумерки. То ли светает, то ли темнеет – на небе ни просвета, затянуто – как замуровано, сплошными серыми облаками.
Дверь кузницы распахнулась, появился Гейнц – Вебера увидел сразу, на лице улыбка. Руки распахнул, ускорил шаг, побежал, налетел – но обнял осторожно и крепко, надежно – не вырвешься.
– Вебер! Ну, наконец-то! Все-таки решился! Я думал ты лет на триста ушел в спячку! Иди сюда… Что ты от меня свою рожу прячешь? Дай обниму, что осталось… Опять, что ли на войну? Погоди, не дрыгайся. Пошли сначала чаю попьем, успеешь навоеваться! У меня чайник горячий, и поесть что-нибудь найдется, идем, говорю. Можешь не упираться, а то под мышкой унесу…
Гейнц есть Гейнц, голос его звучит так хорошо, его голос всегда возвращает к жизни.
– Почему снег?
– Потому что январь.
– Почему январь? Было лето…
– Потому что полгода, фенрих. Я уже привыкать начал. Дышишь иногда – и слава Богу. Больше уже никто не просит.
– Почему я живой?
– Тебя бы расспросить – я не специалист. Специалисты в отъезде – сам понимаешь. Ко мне пошли, Вебер, домой я тебя пока не пущу. Там все нормально.
– Агнес тоже уехала?
– Нет, мы с ней тебя и пеленали. Венцель твой здесь по соседству с тобой – тоже Богу душу отдавал. Ты, конечно, молодец. Бравый парень. Слава Богу, с ним обошлось. И с тобой теперь, думаю, обойдется. Только давай дальше без героизма.
Он посадил Вебера поближе к огню, снял с горна ковш, заменявший ему чайник, всыпал заварки, прикрыл.
– Вебер, там не было ничего. Венцель, может, и дурак. Но ты не умнее. Твоя жена тут была не причем. Твой сын очень болел – так нельзя, Вебер. Мне прямо дохлому тебе хотелось по роже дать, пока Альберт валялся в жару три недели. Ты умирал – и он умирал. Ты думаешь, это только ты к нему привязан? Он к тебе тоже привязан намертво. Каково было Ане – я молчу, и за что ты всем это устроил? Она тебя любит, и Венцель из шкуры лез, старался, как мог, чтоб, пока ты так занят, она не томилась. Потому что все мы старались ее отвлечь. А что было в твоей голове? На сына сходи посмотри, вот уж кто в мальчика Кая превратился. Я смотреть не могу – «папа, папа». А что ему вместо папы предъявишь? С твоим щенком – даже на горшок. Никого у него, кроме тебя, ты это должен понимать. В себя приходи – и пойдешь домой, хватит уже. Агнес ни на что не похожа, в госпиталь устроилась – потому что тебя надо чем-то выхаживать, а где брать? Как тебя кормили – я и смотреть не пытался. А она все одна. Аню не пускала – правильно, потому что это нельзя было видеть. Давай, попробуй немного поесть. Есть сыр и хлеб, я гостей не ждал – удивился, что Агнес с утра трубки убрала. Но она время от времени их меняла – думал, что за новыми поехала, она-то знает, что ты воскрес. Это я ни черта не чувствую и не понимаю. Сейчас, чай чуть остынет…
– Я там графин разбил и хлеб весь просыпал…
– Какой еще графин? Ты что, не в себе?
– Там стоял графин – я попил, хлеб в деревянной чашке – тоже не удержал… Надо бы там прибрать, а то стекла, вода…
– Точно бредит. Какой там графин, Вебер? У тебя и через трубки не сразу пошло. Тебя с того света достали, ты не понимаешь? Не было там ничего. Я заходил час назад.
– Там органа нет.
– Потому что он у тебя дома.
– Дома? – Вебер чуть усмехнулся. – Мне дворец построили?
– Именно. А ты тут черт знает чем занимался. Все тут отстроили, дом твой за корпусом Аланда. И дом Абеля, Коха – все тут. Венцелю у нас с тобой наверху, где раньше закрытые комнаты были, я туда и не ходил никогда. Аланд давно ему сделал комнаты, видимо, нашего поля ягода, раз его к нам… Аланд всех тут собрать решил – живи не хочу, а ты? Только себе ничего не отстроил, даже лаборатории Абеля снова отделал как лаборатории и операционную. У Аланда так две комнаты и остались. Им с Агнес хватит.
Вебер медленно отпивал чай, в тело пошло тепло. Он смотрел на огонь.
– Гейнц, пойдем все-таки уберем…
– Что?
– Стекла с пола. Агнес придет – неудобно…
– Хорошо, сейчас сходим, но там нет ничего, Вебер. Это твой бред. Опять что ли у Бенедикто гулял?
– Я не видел его. Я ничего не помню. Это было как смерть. Мне все еще не по себе.
– Это не удивительно. Ты успокоился, Вебер?
– Да. Ты сам начал играть?
– Приходится… Клавесин Венцелю почти доделал. Пишу. Читаю лекции – слава Богу, их не так много, но что-то платят. С Венцелем приходится много заниматься. Его на другой день после всей вашей заварухи инсульт разбил, он все психовал из-за тебя. Как ты мог вообще такое подумать о нем, о своей жене. Ладно еще, Гаусгоффер тебя на поруки взял – и тебя сразу отпустили, там бы ты в ту же ночь Богу душу отдал. Ты хоть понимаешь, что ты натворил? Если бы Венцель не нервничал, все б обошлось, а его до небес взвинчивало, как он не мог тебя понять. Двадцать два года – инсульт. У него рука была парализована, ногу за собой месяц еще волочил. Ты такой молодец, фенрих, что и рассказать нельзя. Агнес его привела в порядок, только рука быстро не восстанавливается. Играет сейчас, но ему еще надолго хватит развлечения, чтобы до прежнего уровня дойти. Его бы в медитацию засадить, а он как черт ладана всего этого боится. Скорей бы Аланд вернулся. Он бы его собрал и тебя бы взгрел, дурака, как следует.
– Так мои – здесь?
– Здесь. Все здесь. Квартиры все продали.
– И Аланда? У него же был там его дом…
– Фантики это все. Его дом – это Агнес. Они это понимают. Тебе нужен дом – тебе его отстроили, лишь бы тебе это помогло, а им ничего не нужно. Тебя надо было на что-то выхаживать, Венцеля. Строить, гасить неустойки. Аланда нет – и все посыпалось. Я все зову его, только я по-вашему не умею, вряд ли он меня слышит. Давно бы приехал, если бы он меня слышал. Не знаю, фенрих, Анна-Мария с Агнес все это как-то улаживают, я тут вертелся, с работой, с тобой, с Венцелем, с Алькой. Честно говоря, за женой твоей тоже приходилось приглядывать – из нее как душу вынули.
– Пойдем, Гейнц. Надо убрать…
Гейнц махнул рукой. В подвал спустились – как ничего не было, ни битого стекла, ни воды на полу, никакой деревянной чашки.
– Говорю тебе, Вебер, ты еще не вернулся. Идем, как ты будешь перед своими оправдываться – не знаю. Дров наломал, но всё успокоится. Никто ничего больше не хочет, стало бы все, как прежде. Отогрей своих, они настрадались. Никому ничего объяснять не надо, никто не спросит. В глаза посмотри, не ворочай мордой. Ты во всем виноват. Ты – и больше никто. Только за то, что ты жив, тебе все всё простили, уходить никто тебе права не давал, за свою любовь нужно отвечать. Не кулаком, Вебер, – это был не тот случай. Может, и кулаком придется – никто не знает, но сейчас ты просто своей же любви и не поверил. Ты не поверил, а тебя все равно любят, ты понимаешь это?
– Да, Гейнц. Я понимаю.
– А надо верить, в этом вся суть. Любить время от времени – мудрости не надо. Аланд всегда говорил, что мы предатели. Мы все время его предавали своим неверием, и в твоей любви так случилось. У своего сына любить поучись – в нем нет сомнения, он просто любит – и все. Его не переубедишь. И ему все равно, что ты натворил, куда ты ушел, жив ты или мертв – на его любовь к тебе это никак не влияет.
Вебер прислонил голову к плечу Гейнца, сказать нечего. Только как хорошо, что он рядом. Он говорит страшную правду, но словно всю гниль из души иссекает. Гейнц как изменился – таким он не был.
– Все изменились, фенрих. Всех перечистило – до скелета. Заново обрастать нужно, чтоб самим себя не пугаться. Посмотри мне в глаза. Ладно, волком не смотришь. И запомни, дурак, если ты не можешь это мозгами понять, что ты любишь жену – и она тебя любит, ты любишь Венцеля, потому что он тоже тебя любит и был просто страшно тебе благодарен. Ты перед Агнес и Анной-Марией – вечный должник, потому что они тоже любят тебя и для тебя готовы были на все.
– А ты?
– Что я? Я соседний палец с той же ладони – куда ты, туда и я. Можно в любви не клясться – по тебе молотком ударило, и я поджался. Тебя прямит – и я выпрямляюсь. Близко расположены. По соседству. Средний и безымянный – самая жесткая связка. Идем, поумирал – и хватит. Теперь живым в глаза посмотреть придется. Не знаю, что легче.
Совсем рассвело, все-таки это был рассвет. За корпусом Аланда Вебер увидел три дома.
– Вот этот твой, – сказал Гейнц.– Из-за органа выше остальных. Орган в гостиной, а по бокам флигелями жилые комнаты, у вас там хорошо. У Абеля с Кохом попроще. Это ты у нас принц заморский, у тебя там концертный зал – играй на здоровье. Руки-то в порядке?
– По-моему, да. Только я еще весь как из глины вылеплен.
– Сказал бы я, из чего ты вылеплен. Иди, иди, не останавливайся. Сдам тебя жене – пусть с тобой делает, что хочет, много не будет.
Гейнц открыл дверь, подтолкнул Вебера в спину.
– Аня! Анечка, это я тут ни свет ни заря… Привел тебе твоего… отлупи его хорошенько. Привет, Альбертик. Здравствуй, моя радость. Иди ко мне скорее, мой золотой… Вот он, твой папа, – никуда не делся. Я тебе сейчас отвернусь, Вебер!.. Пошли со мной в кузницу, Альберт, ну их всех. Приехал твой папа. Он никуда не больше не денется, так что пошли, а то у меня горн остынет. Поцелуешь его? Ну, целуй. Мы пошли, а вы тут договаривайтесь. Правда, Аня, побей его, ничего лучше не придумаешь.
Гейнц накинул на Альку пальто, нахлобучил ему шапку, прямо у себя на руке ловко обул его. Аня уткнулась в Гейнца, он выразительно пожал плечами, осторожно обнял и ее.
– Ладно тебе, Анечка. Сейчас он еще и мне мозги выбьет – кто его знает, как он твою радость поймет… Вебер, может, ты сам обнимешь свою жену? Или уж потом без свободных интерпретаций… Прости, Анечка, что я его таким пригнал… шинель поверх кальсон, черт знает что! Я даже не обратил внимания… Смотри-ка, Анечка, по-моему, ему даже стыдно…
Гейнц осторожно подвигал Аню к Веберу.
– Вебер, ты до женитьбы смелее был. Давай. Бери инициативу. Кайся, как хочешь. А мы пошли, да, Альбертик?
Алька от удивления уже не только пальцы, а полкулака запихнул себе в рот и огромными глазами смотрел на всех по очереди. Перемены в их лицах ввели Вебера в полное оцепенение. Аня сама взяла его за щеки, сама целовала его – а он так и стоял истуканом. Гейнц ушел с Алькой на руках.
Она целовала, держала его оцепеневшие плечи, вела внутрь комнат – словно вся неброская роскошь квартиры Аланда переместилась сюда и сама себя превзошла. Гостиная – в ней рояль Аланда. Клавесин Гейнца. Кажется, те же стулья, что стояли у Аланда. Те же стеллажи, море книг, нотные переплеты. Те же шторы, овальный стол – все оттуда. Зал? Кабинет? Трех с половиной метровый орган, порт с искусной лепниной, глубокие кресла. Просторный письменный стол из домашнего кабинета Аланда, несколько полок для книг, занятых в работе, письменный прибор на столе. Ничего лишнего – и во всем столько тепла и любви, столько покоя и уюта.
Аня провела его в спальную, пыталась его уложить, он, как восковой, подчинялся, озирался, и снова всматривался в ее глаза. Она все плачет, и в то же время ее глаза наполнены счастливым испугом, словно не верит, что все происходит на самом деле. Не знает, чем ему услужить, пытается укрыть его, напоить, приласкать – и все это сумбуром мешает ей просто сесть рядом. А он будто лишен права голоса. Даже за руку взять ее не смеет.
Слава Богу, дом наводняется голосами и шагами – появляется Агнес, с ней Венцель, Анна-Мария. Агнес садится рядом. Открывает его грудь, высматривает его сердце, чуть мнет живот. Анна-Мария стоит рядом с ней, Агнес ей говорит, что делать. И Вебер вдруг впервые ловит себя на мысли, что Агнес моложе Анны-Марии, Абеля, но так они все привыкли, что она и Аланд – одно, что она старшая, если нет его, а она совсем молодая, просто невероятно сильная женщина. И они все почему-то мнят себя ее детьми, ждут ее указаний. Она очень устала, тени легли на ее лицо. Вебер взял ее руку – как он ей благодарен, высказать невозможно. Она треплет его волосы, что-то утешающее говорит, повторяет, что «всё хорошо». Силы совсем оставляют Вебера.
Анна-Мария поит его, Венцель вышел – вернулся, словно всю жизнь занимался медициной, даже лекарство в шприц сам набирает. На Вебера смотрит открыто, просто, словно ничего не произошло между ними, иногда мелькает вопрос – так ли это и для Вебера. Вебер хотел бы прямо и просто посмотреть ему в глаза – но только отворачивается от острого чувства стыда перед ним, перед каждым из них. Он был так уверен, что прав, а оказалось, что он не прав, и его неправота, так изменившая их лица, так измучившая их, награждена их неизменной любовью к нему – и правому, и неправому. Он вернулся не в камеру, как должен вернуться преступник, едва не убийца, а в тот дом, о котором он и мечтать не смел, только как-то когда-то вскользь позавидовал, понимая, что не достоин и никогда не будет достоин такого великолепного Дома.
Он боролся со слабостью в теле. Агнес повторяла, что он должен уснуть, а ему не хотелось, чтобы сознание его нарушалось даже самым поверхностным сном, он хотел всех их видеть, смотреть на них, слышать их голоса. Чувствовал, как постыдна, преступна его болезнь, его слабость, и не мог себя простить.
Сон одолевал его. Голоса сместились куда-то в другую часть дома, осталась только Анечка, сидела рядом, гладила его лоб, касалась губами его лба, смежившихся век. Он крепко держал ее за руку и не отпускал. Если смертельный сон поглотит его снова? Если все повторится? Как он этого не хотел.
Аня тоже молчит, иногда смахивает слезы. Нечего сказать.
Вебер задремал, и тут же проснулсяв смутном испуге – ему показалось, что тело его лишилось подвижности. Он потянул на себя руку – и не смог ее сдвинуть с места, попробовал приподняться и понял, что тело не отвечает его приказам.
Аня сидела рядом, она видела его беспокойство.
– Аня, что со мной? – прошептал он в ужасе, не прекращая попыток пошевелиться. Ничего не выходило. – Аня…
Пришла Агнес, его поворачивали, его растирали, пытались приподнять, он все чувствовал – каждое их прикосновение, только сам ничего не мог сделать, даже с боку на бок повернуться без посторонней помощи он не мог. Странно, как он выбрался из подвала. Как он дошел до Гейнца, сидел и смотрел на огонь, как он пришел домой, сам вошел в эту комнату, как случилось, что его тело снова мертво, руку к лицу не подтянуть.
Все время кто-то при нем, обычно Анечка, но если она чем-то занята по дому или с Альбертом —приходит кто-то другой. Чаще всего это Венцель. Во-первых, кроме Агнес, он один умеет колоть уколы, остальные боятся. Во-вторых, чтобы ворочать Вебера, сила нужна мужская, приходится принимать его помощь, и – как ни странно – это легко, потому что он умудряется постоянно болтать, не акцентируя внимания на беспомощности положения Вебера. Так же непринужденно болтает с Анечкой, с Алькой, который тоже постоянно вертится около Вебера, и все время за ухо таскает за собой уже изрядно затертого щенка. Кто бы его, Вебера, взял так за ухо и проволок пару раз по сверкающему паркету его волшебного Дома – было бы в самый раз: за все его мысли, за его поступки, за его неверие и предательство всех и всего на свете. Алька укладывает щенка рядом с Вебером, это повод не уходить отсюда и вернуться сюда, даже если «к папе нельзя».
Время тянется. Руки и ноги как тряпки, в теле что-то не так, и это состояние не проходит. Гейнц то читает лекции, то мотается по гастролям, часто с Анной-Марией, иногда с Венцелем, в доме музыка совсем не звучит. Вебер сам не понимает, хочет ли он, чтобы она зазвучала. Наверное, не хочет.
Агнес такая же усталая, до чего ее улыбка напоминает улыбку Абеля. Утром уезжает в госпиталь, потом долго разминает, растирает непослушное тело Вебера. Венцель, если не на концерте, смотрит. Пытается повторять то, что делает она. Про Школу музыки говорит неохотно и мало, а вот если они лечат Вебера, если Агнес берет его с собой в госпиталь – голос его оживляется.
Никто не говорит, кончится ли для Вебера его болезненное заточение выздоровлением или он приговорен. Сам не спрашивает, потому что боится ответа. Даже в шестнадцать лет с перебитым хребтом – была надежда, потому что все было понятно, а тут ничего непонятно. Мысли все тяжелее. За окном уже ранние рассветы, и темнеет не рано, раскрыты шторы – и видно, что из ветвей пробивается листва. Прошло несколько месяцев. Дни он не считает, потому что давным-давно сбился со счета. Если бы он понял, что с ним, – он бы это преодолел, а он не понимает. Был бы парализован – это было бы сразу, если бы что-то погибло в мозгу – это тоже проявилось бы сразу. Но он так хорошо помнил деревянную чашу, снег, огонь в горне кузницы Гейнца, помнит, как он шел, тело все это помнит. Потом вдруг оцепенение в коридоре, шествие по дому на деревянных ногах, его восковое тело, гнущееся только по приказу анечкиной руки, помнит, как сжал ее руку, миг забвения – и сила ушла.
Сейчас он почти не спит, оттого время и тянется в несколько раз дольше – одни эти ночи чего стоят. Анечка спит около него, свернувшись в комок под пледом, по сто раз за ночь просыпается, помогает ему повернуться, улечься. Он смотрит на нее, смотрит и молчит. Гонит мысли о том, что он не имеет права ломать ее жизнь, если так все останется… И не дает себе думать дальше.