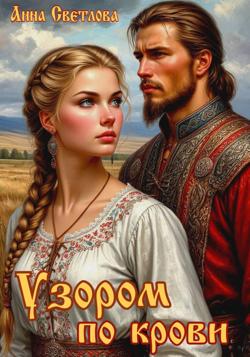Читать книгу Узором по крови - Анна Светлова - Страница 12
Глава 11.
ОглавлениеЗабава
Всеслав покинул мои покои. За ним медленно закрылась дверь. Я долго смотрела в пустоту, туда, где только что стоял брат, и ощущала, как в груди разрастается горечь.
«Такова судьба княжеских дочерей и сыновей – жертвовать сердцем ради земли отцов», – сказал он, глядя поверх моей головы.
За стеной послышались тихие всхлипывания. Открыв тяжёлую дубовую дверь в соседнюю горницу, я замерла на пороге. В груди кольнуло, будто занозу загнали под рёбра. Милава сидела у окна на резной лавке, закрыв лицо руками. Её плечи вздрагивали от рыданий. Лучи заходящего солнца пробивались сквозь мутную слюдяную оконницу и окрашивали её фигуру в золотисто-розовый цвет, делая похожей на икону скорбящей великомученицы.
Услышав скрип двери, Милава подняла голову. Я смотрела на её заплаканное лицо, и сердце моё сжималось от боли. Русые волосы, обычно заплетённые в тугую косу, растрепались. Глаза покраснели от слёз и казались огромными на побледневшем лице. А руки, обычно такие ловкие и умелые при вышивании или сборе трав, беспомощно комкали край сарафана.
Я сделала шаг. Половицы под ногами чуть скрипнули.
– Он… он сказал, что я пойму… что должна понять, – всхлипывала Милава, захлёбываясь на каждом слове.
Я подошла и опустилась рядом. Лавка под нами вздохнула старым деревом. Обняла подругу за худенькие плечи. От неё пахло травами – ромашкой и чабрецом, которые она всегда добавляла в воду для умывания.
Я не знала, что ей сказать, поэтому просто молчала, прижимая к себе. Иногда тишина говорит больше слов, особенно когда слова бессильны против горя.
За стеной глухо ударил колокол на сторожевой башне – три удара, знак смены стражи.
– Я… я думала, что люба ему, – выговорила Милава, вытирая щёки тыльной стороной ладони. – Он же сам говорил…
Я взяла её лицо в ладони – так, как когда-то делала матушка, когда хотела, чтобы я поверила её словам.
– Уверена, что люба, – сказала я, глядя в глаза подруге. – Я знаю своего брата лучше, чем кто-либо. Видела, как он смотрит на тебя. Замечала, как светлеет его лицо, будто в горницу внесли сотню свечей. Но сейчас он не просто Всеслав – он будущий князь. Его рвут на части – отец, бояре, слухи о половцах, которые как туча – глухая и тёмная, идут с востока.
Милава подняла на меня взгляд, полный такого отчаяния, что казалось – загляни в её глаза чуть дольше, и сама утонешь в этой бездне горя.
Я вздохнула, чувствуя, как внутри поднимается глухое раздражение, подобное грому далёкой грозы. Брат всегда был упрямым, но сейчас его упрямство могло сломать жизнь не только ему, но и Милаве.
– Послушай, – я сжала ладони подруги в своих. Они были ледяными, будто она держала их в снегу. – Ты люба ему. Просто сейчас он пытается жить не сердцем, а долгом. Он прежде всего будущий князь, а не просто мужчина. На нём, как и на отце, лежит ответственность за всех нас – от последнего смерда до боярина.
– Я знаю, – прошептала Милава. – Но от этого мне не легче. Сердце ведь не колода, не заставишь не болеть…
За окном начинало темнеть. Последние лучи солнца пробивались сквозь полупрозрачную слюду, рисуя на деревянном полу, натёртом до блеска, причудливые узоры – словно невидимая мастерица ткала золотой ковёр. Где-то во дворе залаяли собаки, учуяв чужака.
Я натянуто улыбнулась, пытаясь отвлечь Милаву от тяжёлых мыслей.
– Помнишь, как мы в детстве лазили на крепостную стену? – спросила я, стараясь, чтобы голос звучал непринуждённо, почти насмешливо. – Ты тогда так боялась высоты, вцеплялась в выступы, будто белка, но всё равно лезла за мной.
Милава всхлипнула, но в уголках её губ промелькнула робкая улыбка, а возле глаз появились едва заметные морщинки.
– Ты сказала, что там растёт волшебный цветок, который исполняет желания, – прошептала она, неловко утирая слезу. – Вот я и полезла.
– А когда мы добрались до верха, там ничего не было, – я усмехнулась, чувствуя, как в груди шевельнулось тёплое воспоминание. – Только ветер и птицы.
– И ты тогда сказала, что цветок улетел, потому что испугался ворон, – Милава тоже засмеялась, и её смех был как весенний ручеёк: робкий, но живой. – Я и правда поверила! До самого Петрова дня в окне высматривала, не вернётся ли тот цветок.
– Конечно, поверила. Ты всегда мне верила, – я сжала её руки, чувствуя, как кожа под моими пальцами начинает теплеть. – Так и сейчас поверь. Всё образуется. Пусть не сразу, но обязательно выправится.
Милава подняла на меня взгляд, в котором надежда боролась со страхом. Её зрачки расширились, делая голубые глаза почти чёрными, как омуты.
– А если нет? – прошептала она, и её голос дрогнул, словно тонкая ледяная корочка под ногой.
Я выпрямилась, будто внутри меня поднялся ветер.
– Тогда мы что-нибудь придумаем, – сказала твёрдо.
Мы сидели у окна, наблюдая, как день уступает место ночи. Тени удлинялись, ползли по стенам горницы, цепляясь за вышитые рушники с красными петухами-оберегами. Каждый стежок на них был заговорён старой Пелагеей от лихого глаза и нечистой силы. Из печи, протопленной с утра, ещё тянуло живым теплом. В углу потрескивала лучина в железном светце, отбрасывая на бревенчатые стены причудливые тени.
Чёрный Яр засыпал – слышались перекличка дружинников, сменяющих караул на стенах, хриплый лай собак у конюшен, скрип колодезного ворота, когда последние работники набирали воду на ночь. Из дальнего угла терема доносилось монотонное пение Пелагеи.
– Что будет с крепостью? – тихо спросила Милава, прислушиваясь к этим звукам, словно пыталась запомнить их навсегда.
Я невольно коснулась крестика на шее.
– Полукровка говорил страшные вещи об орде Кончака, – ответила я, вспомнив рассказы пришлого человека с раскосыми глазами. – Говорил, что их тьма, как саранчи в засушливое лето, что они не знают пощады ни к старикам, ни к младенцам. Что кровь течёт за ними рекой, а пепел от сожжённых деревень застилает небо чёрной пеленой.
Я замолчала, глядя, как последний луч солнца скользит по резному наличнику, словно прощаясь до утра. Сколько закатов видел он? Сколько рассветов встретил?
– Чёрный Яр стоял здесь ещё до рождения моего отца, – добавила я чуть погодя, проводя рукой по шершавой поверхности дубовой лавки, отполированной поколениями рук до блеска. – Выдержит и сейчас. Его стены видели и печенегов, и хазар. Переживут и половцев.
Но в сердце моём скребли когтями сомнения. Я вспомнила лицо отца, когда он вернулся после разговора с Маломирой. Осунувшийся, с запавшими глазами, словно за один вечер постарел на десять лет.
– А если нет? – Милава вцепилась в мою руку. – Если половцы прорвутся в крепость?
В её глазах плескался страх – тёмный, глубокий, как омут. Я знала этот страх – он жил и во мне, свернувшись клубком где-то под сердцем, как змея в норе.
Я посмотрела на подругу, стараясь, чтобы мой голос звучал увереннее, чем я себя чувствовала. Каким был голос отца перед битвой – спокойным и твёрдым.
– Тогда мы будем сражаться. Каждый, кто может держать в руках оружие. От мала до велика. Я сама встану на стену с луком, и ты знаешь, что я не промахнусь.
«И умру там, если придётся», – подумала я, но не сказала вслух. Лучше смерть, чем полон у степняков. Я слышала рассказы о том, что делают половцы с пленными женщинами. Лучше уж броситься со стены крепости вниз головой.
Милава смотрела на меня широко раскрытыми глазами, в которых отражалось пламя свечи, делая их похожими на два янтарных камня с застывшими внутри искрами.
– Ты всегда была храброй, Забава, – улыбнулась она, и в её улыбке мелькнуло что-то от прежней, беззаботной Милавы, которая плела венки на Ивана Купалу и бросала их в реку, гадая на суженого. – Помнишь, как ты заступилась за меня перед Всеславом и его дружками?
Я рассмеялась, вспоминая, как налетела на троих мальчишек, дёргавших Милаву за косу возле кузницы. Мне было шесть, ей – семь, но я уже тогда не боялась вступить в бой за тех, кто дорог моему сердцу.
– Ещё бы не помнить! – я потёрла костяшки пальцев, словно они всё ещё болели от того давнего боя. – Брат потом неделю дулся на меня за разбитый нос. Всё грозился пожаловаться отцу.
– Зато больше никто не смел обижать меня, – Милава прижалась ко мне, как в детстве, когда мы прятались от грозы под тяжёлыми меховыми одеялами. – Знаешь, иногда я жалею, что мы выросли. Тогда всё было проще. Самой страшной бедой был разбитый нос или порванный сарафан.
Я вздохнула, глядя на свои руки – уже не детские, с длинными пальцами и аккуратными ногтями, но с мозолями от лука и рукояти ножа, который я всегда носила в кожаных ножнах у пояса. Вопреки причитаниям Пелагеи о том, что «негоже дочери князя носить оружие, яко ратному мужу».
– Да, проще, – согласилась я, наблюдая, как тени от лучины пляшут на стенах. – Но мы не можем оставаться детьми навсегда. Как не может река течь вспять или солнце остановиться в зените. Всё течёт, всё меняется, как сказывал отец Феофан.
Я подошла к окну, но в тот же миг кровь застыла в жилах. Гостомысл стоял во дворе напротив моих окон, неподвижный, как деревянный идол, и его глаза впивались в меня, как когти хищника, а губы едва заметно шевелились, будто он что-то беззвучно говорил. Я отпрянула, спиной ударилась о резные ставни. В ушах застучало: «Что он здесь делает? Неужели следит за мной?»