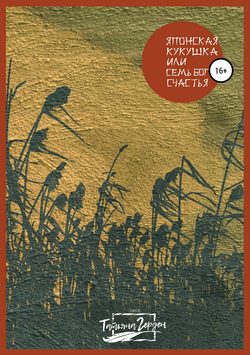Читать книгу Японская кукушка, или Семь богов счастья - Татьяна Герден - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
14
ОглавлениеВремя шло, и старательность Райдона вскоре была оценена по достоинству. Его несколько раз повышали в звании и, когда он стал матросом 1-го класса, предложили учиться кадетом в Кайгун дайгакко, военной академии Императорского флота в Цукидзи – быстро развивающемуся флоту нужен был командный состав нового поколения. С одной стороны, молодой комендор был польщён вниманием начальства и гордился тем, что может похвалиться Теруко отличной службой и стремительно развивающейся карьерой. К этому времени Тоёда Акира уже умер, и все мысли Райдона были направлены на то, чтобы доказать матери, что он выполняет волю отца служить императору.
Угодить Теруко тоже было непросто. Скупая на проявление чувств, немногословная, привыкшая разговаривать с растениями в храмовом саду, она умела одним взглядом, кивком и даже почти незаметным поворотом спины красноречиво дать понять довольна сыном или нет. Подобно гиацинтам и нарциссам на её грядках, Райдон с малых лет научился чувствовать настроение Теруко без слов и остро понимал, когда нужно побыстрее уйти с её глаз, чтобы не вызвать бури – гневно сдвинутых бровей и крепко сжатых губ и следующего за сим затяжного безмолвия за обедом, а когда – спокойно участвовать в разговоре – неторопливом обмене взглядами, кивками, односложными ответами на молчаливые вопросы. Теруко с малых лет дала понять сыну, что молчанием можно сказать гораздо больше, чем оживлённым разговором, и что нет такого смысла, которого нельзя было бы передать цветами, запахами, стихами, чашой дымящегося чая маття или свежевыстиранным платьем, не говоря уже о жестах и взглядах.
И то правда, по тому, как Теруко заботилась о нём, Райдон всегда знал, как сильно она его любит. Она готовила его любимые блюда: гречневую лапшу соба, такояки – жареного осьминога с водорослями, рисовые шарики с маринованным шпинатом и момидзи, десерт из кленовых листьев в сиропе. Она чистила ему одежду, покупала всё необходимое и часто приносила старинные рукописи из храмовой библиотеки, например трактат «Дзино сётоки» или стихи Иссы с рисунками, вышитыми на полупрозрачной бумаге шёлковыми нитями, и для этого совсем не нужны были слова, подтверждающие глубокую между ними связь. Он так привык к немногословию, что не нуждался в досужих разговорах, и, хотя мать больше запомнил склонившейся над грядками, чем над его кроваткой, ему никогда не бывало скучно. И самое главное, он тоже научился созерцать – распознавать в окружающем мире законы и правила движения ками, духовной сущности, наполняющей всё живое.
Потому с другими людьми Райдону было трудно разговаривать – он часто натужно молчал, поскольку так много мысленно сообщал перед тем, как произнести слова вслух, потверждающие уже высказанные про себя мысли, что ожидал понимания и ответа, но говорливые собеседники удивлённо пялились на него, торопили, задёргивали ненужными расспросами, перескакивая с одной темы разговора на другую, как следует не закончив ни одной из них, и совсем не пытались вникнуть в смысл его пауз. Многие вообще считали его сумасшедшим. «Ты что, приятель, язык проглотил?» – подсмеивался над ним очередной незнакомец. «Да ты просто немой», – хихикали ему в лицо пьяные каси дзёро, вешаясь на шею и пытаясь залезть холодными руками ему в штаны до того, как он успевал оттолкнуть их от себя. И только суровому мичману Камата Райдон не казался ни сумасшедшим, ни немым, потому что никогда не пререкался ни со старшими, ни с младшими по званию и почти всегда блестяще исполнял приказы. Посему выходило, что друзей, кроме Уми цубаме, у Райдона не было.
Вот это и была причина его разноречивых чувств по поводу списания с Фусо. «Как, как расстаться с ней? – спрашивал себя Райдон, ожидая окончания срока службы. – Как расстаться с Уми цубаме? Ведь переезд в Цукидзи означал, что они больше никогда не увидятся». Вместо счастья, радость о повышении принесла ему лишь сердечные муки. Райдон страдал от предстоящей разлуки с Морской ласточкой и не мог поднять на неё глаза.
– Я не виноват, – говорил он ей. – Это служба. Нам придётся расстаться.
«Зачем же ты так старался? – казалось, отвечала ему с упрёком Уми. – Ты же знал, что если станешь отличником, тебя обязательно повысят в звании, и мы не будем вместе».
– Я и не думал об этом, – признавался Райдон, – я просто выполнял свой долг.
Но Уми слушать его не хотела и только обиженно дулась в ответ. Получалось, что чем лучше они палили, тем быстрее близился срок их разлуки. Может, она специально раньше упиралась и мазала по целям, чтобы мы подольше были вместе? Ну почему, почему радость так быстро сменяется грустью? Ах, как же тяжело было у него на душе, и сердце так непривычно ныло, как будто кто-то растягивал в груди стопудовый канат и завязывал его коренные концы кинжальным узлом, пропуская тросы через многочисленные пересекающиеся петли туго затянутой восьмёрки. Единственное, что могло успокоить обоих, было то, что после учёбы, через года три, он мог вернуться мичманом или даже лейтенантом на их же броненосец и служить на нём уже в новом качестве, и они смогли бы снова быть вместе.
«Ты веришь, что это возможно?» – спрашивали они друг друга.
И Райдон мужественно отвечал за себя и за Уми:
– Конечно, надо только набраться терпения.
Так всегда учили его родители. И он подчинялся. На том и расстались
Сначала Райдону было очень тяжко на суше. Помимо тоски по Уми, он понял, что уже не мог долго выдерживать застывшей твёрдости земли, его качало от несуществующей качки и в зданиях, и на улицах, и он никак не мог заснуть на слишком неподвижной койке казармы кадетского корпуса, которая больше уютно не поскрипывала от морской болтанки, как его парусиновая «колыбель» – гамак на фрегате, а ухо не улавливало привычного убаюкивающего шума прибрежной волны и крика бакланов, и только когда обучение велось там, где ему и положено – на бортах учебных линкоров, он снова чувствовал себя как дома. Правда, особо скучать ему не давали. Распорядок дня в школе был жёстким, рассчитан по минутам, и даже секундам, и кадетам часто казалось, что их жизнь свернулась в одну промежуточную точку – моментального проваливания в сон между утром и вечером, когда ты смыкаешь глаза только для того, чтобы тут же услышать истошную сирену подъёма.
Два раза в год за отличную учёбу Райдона отпускали домой на два дня, и, ступая по красно-кровавым листьям, упавших с клёнов на мостовые Осаки, он ловил себя на том, что, кроме этих листьев, их ярких красок, сетчатых рисунков прожилок и чуть горьковатого запаха стылой осенней прели, он уже почти не узнаёт этого города, его мостов, каналов и островерхих крыш, многочисленных кричащих вывесок и новых питейных заведений, появившихся чуть ли не по соседству с храмовыми кварталами, как впрочем и город не узнавал его и так же исподлобья всматривался в его черты, как подслеповатый, подозрительный старик. По улицам энергично шли люди, гуськом двигались многочисленные повозки, тут и там приветливо зажигались оранжевые фонарики у лавок и торговых домов, по низу рваными клочьями выстилался влажный туман, пропахший дымом от тлеющего огня хибати, и всё это было ему знакомо и всё-таки выглядело по-другому, отстранённо, как будто было нарисовано на почтовой открытке из времени, выпавшего из его жизни, как и сами кленовые листья, шумно шуршащие под его ногами. И всё это время, пока его не было, суетное бытие его родных мест составляли совсем другие люди, и это они теперь толкались на рыбном рынке Куромон, гуляли по набережным канала Дотомбори и ходили к трём священным горам по таинственным тропам Куман-кодо, любуясь на Замок Белой цапли, и это теперь с ними город общался, как со своими близкими родственниками, а с ним – никак, потому что и для гостиного дома Семпукана, и острова Наканошима, застрявшего между реками Дожима и Тасобори, и даже для его любимого моста Белоснежного Кита, собранного из костей удивительного морского гиганта, по которому они столько раз ходили с Теруко, он стал теперь чужим. Чужим.
Каждый раз, когда он приезжал домой, Теруко тоже менялась – она становилась меньше, ниже и сухощавее, и её когда-то гладкое как лик восходящей Луны лицо вдруг начало туго натягиваться тонкой кожей, и – о ужас! – в местах, где кожи как будто не хватало, она начала дробиться в мелкие чёрточки морщин, везде – у глаз, носа, основания бровей, и вот уже две глубокие стрелки некрасивой скобкой спустились с уголков рта почти до самого подбородка, и незаметно из изящной женщины, которая всегда была в его памяти молодой и прекрасной, Теруко стала превращаться в юркую старушку с высохшим лицом, которой Райдон тоже пока не узнавал. И все же это была она. Мама. Теруко-сан. У неё были те же умные, внимательные, с еле заметной хитринкой глаза, изящные брови, а улыбка! – лучше этой улыбки Райдон не видел ничего на свете, может быть, ещё и потому что она была такой редкой гостьей на её лице. Сердце его сжималось при виде постаревшей матери, и он не замечал, как обжигал губы своим любимым супом из морского угря.
Интересно, что из-за постоянной разлуки его чувство вины за длительное отсутствие только лишь усилилось, как будто все эти десять лет он занимался не военной карьерой, чем гордился бы отец и благодаря чему Райдон мог неплохо содержать мать, а будто бы он просто взял и убежал из дома. От неё. От Теруко. Из страха. Страх этот заключался в том, что он всё время боялся не оправдать её надежд. Не так сесть. Не так встать. Не то сказать. Не то подумать. Быть слишком шумным или, наоборот, не отвечать на вопрос, когда надо было отвечать. И ведь она никогда не ругала его, как это делали другие матери. Просто привычка впитывать окружающие эмоции – неважно, откуда они исходили, от людей или от предметов – привела его к тому, что он всё слышал и всё понимал, и, именно реагируя на эмоции окружающего мира, он лепил себя, как морская губка чутко впитывая ответные сигналы взаимопонимания и обретения гармонии, но при этом, как сгусток водорослей, выброшенных на берег, жадно всасывающих солнце, он не только копил мудрость и развивал глубину своей души, но и быстро таял, высыхал, слишком подчиняясь воле и влиянию более сильного. Раз Теруко пришла в этот мир первой, думал он, многим раньше него, и это именно благодаря ей он тоже пришёл в этот мир с готовым ощущением важности каждой долго длящейся минуты отведённого ему времени, он зависел от её настроения намного больше, чем она от его, так же, как и цветы от струй дождя, а не наоборот, и от этого никуда было не деться.
Потому его краткосрочные визиты домой не только не снижали глубинного внутреннего напряжения от вины, что он бросил мать, впрочем, так же, как бросил и Уми – по очень рациональным и важным причинам, но напротив только усиливали его. И чтобы хоть как-то показать Теруко, что он не забывает о ней и не намерен терять связь с домом, Райдон попросил её разрешения взять с собой какую-нибудь вещицу, в котором жила бы часть его детства. Мать кивнула, слегка улыбнулась и, ничего не говоря, подошла к полкам с семенами. Райдон посмотрел на них и после некоторого раздумья, взял одну из трёх фигурок нецуке – птицу счастья саси из древесины каштана со шнурком для ключа. В глазах Теруко на минуту вспыхнул лучик света, и она кивнула в знак согласия. Райдон понял, что сделал правильный выбор, потому что это была именно та вещь, которая как нельзя лучше соединяла их друг с другом и могла как ключ надёжно хранить и, когда надо, открывать память их семьи для каждого из них – его самого, Теруко и рано ушедшего отца.