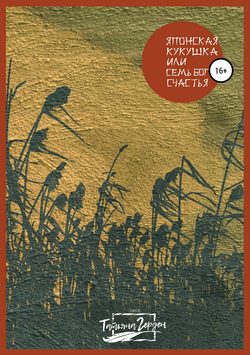Читать книгу Японская кукушка, или Семь богов счастья - Татьяна Герден - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
18
ОглавлениеПосле своего падения в овраг Костю я больше не видел. Он уехал. А я попал в больницу с дробным переломом лодыжки со смещением. Я не очень помню, как меня вытащили из оврага. Кажется, Костя побежал за Лесовым, и они меня дотащили до конюшни, а там сразу на подводу – и в больницу. Боль была ужасная, кость раздробилась на мелкие внутренние осколки, я был весь в липком поту, меня тошнило, и время от времени я впадал в какой-то бред – мне казалось, что я снова бегу в овраг, на полном ходу задеваю сук на старом бревне, лечу в яму, и надо мной опять гулким эхом многократно раздаётся Костин надрывный крик: «Подожди! Аким! Куда ты побежал?». Я закрывал уши ладонями, зарывался в подушку, но его голос преследовал меня, и я снова и снова разбегался, чтобы прыгнуть в овраг и снова услышать его крик. Этот кошмар длился несколько недель.
Меня долго лечили, сначала в больнице, а потом дома, нога опухла и почернела, я не мог ходить и только лежал в постели, подоткнутый со всех сторон одеялами, пледами и бабушкиными расшитыми думками, как то самое бревно, по причине которого я как следует так и не увиделся с Костей.
Вскоре я получил письмо от Коньковичей. Сначала, взглянув на конверт, я подумал, что это от Кости, и сердце моё сжалось – наверное, Костя пишет, что мы с ним больше не можем быть друзьями. Но когда я открыл конверт, то увидел, что письмо писано не Костей, а его отцом – Дмитрием Сергеевичем, профессором Коньковичем. Я был так поражён, что запомнил его текст наизусть.
«Многоуважаемый Аким Родионович!
Надеюсь, Вы поправляетесь и моё письмо найдёт Вас в добром здравии. По приезде Константина Дмитриевича после визита к Вам и длительного с ним разговора, я счёл своим долгом христианина и человека, чья профессиональная деятельность связана с просвещением, а не наоборот – с мракобесием и человеконенавистничеством, восстановить справедливость, так откровенно попранную в нашем учебном заведении по отношению к Вам. По сему спешу сообщить, что по моему прошению дело Ваше пересмотрено, все ведомости экзаменационной комиссии проверены, и решением ректора Чесальникова Вы приняты в академию сегодняшним числом. Бумага о решении будет Вам прислана на днях с курьерской почтой.
Искренне рад за Вас,
Конькович, Д. С.»
Вот это да! Я перечитывал письмо и никак не мог поверить, что всё написанное – правда. Я принят! Я всё-таки принят. Значит, Костя решил не рвать нашу дружбу из-за моего сомнительного происхождения, а наоборот помочь мне, а я как дурак на него взъелся? Я задохнулся от стыда за свою глупость. Как обрадуются мама, бабушка! Лесовой! От радости я забыл, что на моей ноге медицинская шина из твёрдой проволоки и рванулся с постели, чтобы вскочить на ноги, и тут же упал на кровать как тряпичная кукла. Я взвыл от боли. Как же я буду учиться, если совершенно не могу двигаться? Господи, почему Ты так жесток со мной? Сначала я не смог бы учиться вместе с Костей, потому что меня не приняли, теперь уже, когда меня приняли, я не мог даже встать на ноги, ибо каждое моё движение причиняло острую, невыносимую боль.
На мой крик прибежала бабушка. Увидев меня, лежащего поперёк кровати с искажённым от спазмы лицом, она заохала и принялась укладывать меня на место, подтыкая со всех сторон одеялами. Оправившись от боли, я показал ей письмо. Она просияла, но тут же растерянно посмотрела на мою ногу.
– Акимка, а как же ты, голубчик, будешь учиться, когда ты не можешь на ногу ступить?
Она села на край кровати, взяла меня за руку и мы оба задумались. По её встревоженному взгляду куда-то вперёд и чуть наверх я понял, что она тоже подумала о том, что и я – отчего-то Господь не хочет видеть меня студентом академии. Но вот отчего? Ответа на этот вопрос ни у неё, ни у меня не было.
Дни мои опять потекли серой, невыразительной чередой. Бумага о моём зачислении в академию пришла, как и обещал Костин отец, через день курьерской почтой. В сопроводительной записке ректор Чесальников сухо извинялся за ранее допущенную ошибку в ведомостях и ссылался на нерадивую работу секретаря приёмной комиссии академии г-на Звынкова, Е. П. Я не знал, кто такой Звынков, Е. П., но мне уже было не до него. Было ясно, что даже если я встану на ноги и смогу двигаться, то только на костылях, и потом, возможно, буду хромать всю жизнь, как Лесовой с его деревянной ногой. И потому об учёбе пока не было и речи.
– Теперь мы с тобой будем оба как пираты, – пытался подзадорить меня Лесовой, вспоминая, как я сравнивал его с Джоном Сильвером. Лесовой приносил мне корзинки с душистыми яблоками, дикой малиной, охапками берёзовых листьев – это чтобы бабушка делала мне настой от воспаления костей, – и кусочками древесного гриба чаги, завёрнутого в холщовый мешочек. Лесовой говорил, что этот гриб помогает даже при чёрной немочи. Пётр Петрович рассказывал смешные истории про лошадей, например, как Русалка не хотела принимать лекарство от паразитов и, напоминая вредную, ворчливую старуху недовольно фыркала и пятилась от ведра с горьким раствором до тех пор, пока не свалила часть забора своего стойла, после чего сама жутко перепугалась и понеслась прочь. Насилу он её поймал. Визиты Лесового и игра с бабушкой в лото на какое-то время помогали мне забыть о горестном исходе моих каникул, которые, судя по всему, могли продлиться годы.
Радость от решения о моём восстановлении в правах студента академии постепенно сменилась горьким разочарованием. В конце концов, получалось, что это не я сам поступил и что это не справедливость восторжествовала, потому что я сдал экзамены на отлично, а только потому, что Костин отец лично знал ректора Чесальникова, а я – дружил с Костей. Могло статься, что ректор просто поддался на уговоры Дмитрия Сергеича исключительно из уважения к нему или потому, что тот пригрозил ему инспекцией. Ведь кто-кто, а профессор Конькович знал о пристрастии Чесальникова к фруктовым наливкам и его полном несоответствии занимаемой должности… Таким образом, не знай я Костю, бумаги никто не потрудился бы пересматривать, и я снова чувствовал себя тем, кем и был для них, – изгоем, басурманцем, безотцовщиной, японской кукушкой, которой я родился и продолжал быть, несмотря на мои глубокие познания в области геометрии, естествознания, риторики и иностранных языков.
Мало-помалу опухоль на больной ноге спадала, и, хотя проволочную шину пока не снимали, я стал понемногу вставать с кровати и мелкими шагами, на костылях, медленно передвигаться от кровати до окна и назад.
Август выдался сухим и жарким, у меня в комнате было душно, и меня было решено переселить в спальню маман, окна которой были с северной стороны. Последнее время днями и неделями её не было дома, бабушка говорила, что мама хочет поступить на службу, и вскоре мы узнали, что ей предложили работу в каком-то городском архиве в Смоленске. Она уехала. Потом мы получили от неё открытку, что с ней, Слава Богу, всё хорошо и что она сняла две меблированные комнаты на улице Богоявленской, и что хотя жалованье назначили мизерное, служба помогает ей не чувствовать себя приживалкой в собственном доме на шее у пожилой матери. А мне почему-то показалось, что она уехала из дома из-за меня. Может, ей было слишком горько видеть меня таким неудачником, на костылях? Особенно после того, как она познакомилась с Костей.
Мне опять стало очень скучно и одиноко. В моём отношении к Косте произошла какая-то перемена, связанная с отчуждением, причины которого было трудно понять. Я уже не ждал его, как раньше, поскольку мне было жутко стыдно, что я усомнился в его добром отношении ко мне, но, с другой стороны, я не знал, каково на самом деле было его отношение – ведь, возможно, он просто чувствовал свою вину, что наша встреча закончилась так драматично для меня, и хотя я сам как дурак помчался от него прочь и так глупо покалечился, он был к этому всё-таки причастен. То есть, думал я, его просьба к отцу похлопотать о моём деле была, скорее, из жалости, а не из стремления постоянно видеть меня подле себя на курсах академии, да и жёсткий Костин взгляд тогда, перед моим роковым бегом к оврагу – он не давал мне покоя, он пронизывал меня насквозь каким-то внезапно пробежавшим холодком, возникшим, по-видимому, вследствие извечной человеческой привычки разделения мира на он и я, свои и чужие…
Чтобы успокоиться, мне надо было бы поговорить с Костей, в конце концов, написать ему и объясниться, но я не мог придумать, с чего начать и что сказать даже в уме, не то что на бумаге. Как только я начинал придумывать фразы своего письма, они не клеились, звучали чопорно и глупо, как будто я винился перед ним – но в чём? В своей несуразности? Но тем самым я только подчёркивал её – эту самую несуразность – и переживал вновь разрыв с ним, вспоминая последние минуты перед расставанием и эту мёртвую кукушку с простреленной головой, её грязные, окровавленные перья прямо перед моим носом, и это было ужасно и невыносимо больно, больно. Больно.
В один из таких дней, когда я пытался решить, что же всё-таки написать Косте, я медленными кругами передвигался по спальне, то и дело откладывая в сторону поднадоевшие мне костыли и машинально перебирая предметы на мамином комоде. В который раз я доставал оба японских веера из футляров, бессмысленно щёлкал ими как ножницами – раскрывал, разглядывал и собирал, потом подолгу пялился на открытки с неизвестными мне буковками, но они по-прежнему хранили тайну непонятного мне алфавита, и я не знал, чем бы ещё я мог себя развлечь.
На этот раз, стоя у комода, я обратил внимание, что на его поверхности пролегли островки неровных полос – там, где я трогал предметы, пыли не было, а за большим квадратным зеркалом в тяжёлой старинной оправе, прислонённым к стене – была. Тогда я решил протереть пыль и за зеркалом, чтобы не было заметно, где я трогал предметы без спроса, а где нет. Осторожно отодвигая зеркало, к своему удивлению и мгновенному восторгу, я обнаружил за ним две крохотные фигурки с первого взгляда похожие на что-то вроде маленьких нераскрашенных матрёшек. К тому же они изрядно запылились. Я взял фигурки, потёр их о пижамные брюки и увидел, что они представляли собой скульптурки человечков в забавных позах. Вырезанные то ли из светлого дерева, покрытого лаком, то ли из чего-то вроде слоновой кости, они были приятны на ощупь и, скорее всего, являли собой персонажей каких-нибудь японских сказок. Один из человечков держал в одной руке корзинку, из которой высовывалась рыбья голова, – было ясно, что это рыбак. А у другого – весёлого лысого старичка в сандалиях и мешком за спиной – из широко распахнутого халата выпячивалось большое круглое пузо. На первый взгляд эта фигурка очень напоминала уже знакомую мне чернильницу. Я невольно рассмеялся. Какие забавные! Интересно, почему я никогда их раньше не видел? Понятно, что мама привезла их из Японии. Значит, это было до моего рождения. Как тоненькая ниточка связь с моей второй родиной стала снова напоминать о себе, как бы говоря, что я не должен забывать о ней и что меня, возможно, ждут ещё новые неожиданные открытия.
Весь остаток дня я рассматривал свои находки, лёжа в постели, и дивился, как точно мастер передал не только фигуры сказочных человечков, но и выражение их лиц, детали одежды и предметов, которые они держали в руках: домик у воина и мешок у толстяка были проработаны до мельчайших подробностей – с узорами и выразительными складками на гладко отполированных боках, а ведь обе фигурки были не больше мизинца. Поистине, передо мной были не просто детские игрушки, а предметы виртуозного ремесла, если даже не самого высокого искусства. Как мне хотелось побольше узнать о них!
Натурально, от моей скуки не осталось и следа. Снова в моей больной душе лёгкой, искристой волной свежего ветра под полными парусами стало просыпаться давно забытое чувство неизбывного любопытства к миру, как будто в окно подуло пряными запахами с далёких, сказочных островов, полных удивительных исканий и надежд. Уже в полудрёме, не в силах удержать скульптурки в немеющих руках, я положил их себе под подушку, чтобы не расставаться с ними и во сне, и ещё долго размышлял о них перед тем, как заснуть. Я думал о том, как причудливо складывалась моя судьба. Чем больше я чурался страны, причастной к моему рождению, тем настойчивее она давала о себе знать. Она как будто бы говорила со мной полушёпотом, исподволь, ещё полностью не разгаданными мною знаками. Едва различимыми застенчивыми жестами она зазывала меня в свои чертоги, осторожно толкая к более близкому знакомству. Понемногу я начинал понимать, что смысл моей находки был не только в попытке развлечь меня в минуту горьких переживаний, но и для того, чтобы невзначай сообщить, что забывать историю своего родства, каким бы невероятным оно не казалось – нельзя и что в моей крови может быть запрятано что-то ещё такое, о чём я и сам пока не догадывался.