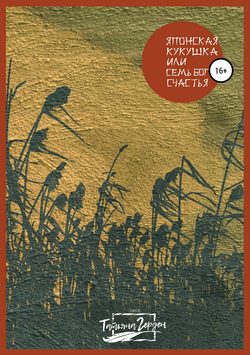Читать книгу Японская кукушка, или Семь богов счастья - Татьяна Герден - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
1
ОглавлениеМеня зовут Тоёда Акияма. Тоёда – это фамилия, Акияма – имя. У меня чёрные волосы и тёмные глаза. Высокие скулы. Чёрные брови. Кожа бледно-оливкового цвета. Когда я улыбаюсь, многим кажется, что я просто растягиваю рот. И что мои глаза по-прежнему внимательно следят за собеседником. Может быть, и так. Но я улыбаюсь. Я делаю это очень часто. У меня вообще есть чувство юмора, оно помогает мне жить. Во-первых, потому что я – русский. Нет, я не играю на балалайке, не пью водку, не пою частушки. Я совсем не умею петь. Вслух. Я пою внутри себя. Часто без слов, иногда на родном языке, на русском. Только не «Очи чёрные», а романс «Гори, гори, моя звезда» Петра Булахова. Этот романс любила петь моя мама – Светлана Белозёрцева.
Во-вторых, почти тридцать лет назад я появился на свет в селе Талашкино Смоленского уезда Смоленской губернии. Там по всей округе растут высокие берёзы с белыми стволами в чёрную, рваную полоску и дубы, стволы которых не охватить, даже если взяться за руки вдвоём, а то и втроём. Липы в середине июня там пахнут свежим мёдом, а озёрная вода тиха и прозрачна. Подобно придирчивой красавице, она часами смотрится в небо, как в зеркало, словно спрашивая своё отражение, на самом ли деле так хороша? А может, так только кажется, когда пишешь о месте, где родился издалека, а на самом деле дубы не такие уж толстые, и не все берёзы – белые…
Бабушка моя, Наталия Игнатовна, звала меня Акимкой: «Акимка, принеси воды из колодца», «Акимка, полей на руки из кружки», «Акимка, загаси свечу…» Акимка… А мама звала Акишей. Когда я был маленьким, мне это очень нравилось, потому что это имя звучало очень ласково, по-домашнему. Но когда я стал постарше и вышел на улицу, соседские дети услышали, как звала меня мама, и стали дразнить Акишкой-басурманцем и япошкой узкоглазым. Я не понимал, почему.
Я пришёл к маме и заплакал. «Акиша, что ты, что ты?» Мама утёрла мне слёзы кружевным платком, а бабушка, распорядившись поставить самовар, проворчала: «Вот уж кто басурманцы, так это они сами и есть, не могут отличить православного от иноверца». И я спросил, кто такой иноверец и кто такой япошка. А бабушка сказала, что иноверцы – это люди иной веры, кого всякие некультурные называют басурманами, и что мы православные и, хотя и не разделяем их веры, относимся к ним с уважением, и что япошка – это обидное слово, потому повторять его не надо, и на них, невежд и супостатов, вообще не надо внимания обращать.
Я перестал плакать, и мы сели вместе пить чай с ревеневым пирогом. Ревень рос у нас везде: и во дворе, и за домом, среди крапивы и лебеды, и у крыльца, почти как сорняк, – и мне нравилось отламывать и кусать его красноватые черешки с упругими бороздками, отдающими кислым древесно-травяным вкусом, похожим на недозрелые яблоки. Дым от осенних костров, когда жгли опавшие листья, душистый аромат покоса, свежемолотого зерна и жареных тыквенных семечек, перетёртого мака и растительных жмыхов, густо тянущихся с маслобойки, и составляли запахи моего детства. А главным вкусом детства, конечно, был он – кисловатый вкус ревеня. Бабушка часто подваривала молодые черешки в густом сахарном сиропе и, хорошенько высушив их на солнце, на другой день погружала в тот же сироп и, вынув, снова сушила. Поэтому когда я просил сласти, мне давали ревеневые цукаты. Они были такие же упругие, как и красноватые стебли свежего растения, только теперь от густого сиропа делались оранжевыми. Когда я подносил их к глазам и смотрел через них на солнце, я видел тугие слои полупрозрачной массы, напоминающей застывший мёд. Выбрав цукат побольше, я долго держал его за щекой, пока во рту не становилось вязко, а потом вынимал и сравнивал, насколько изменился размер и цвет кусочка от первоначального. Это меня забавляло.
После чая с пирогом я снова шёл на улицу, и мальчишки опять дразнили меня. А я говорил им, что я не басурманец и что мы православные, потому что я крещёный, и что слово япошка обидное и повторять его не надо – как мне наказала бабушка, – но они ещё пуще смеялись и строили рожи, растягивая глаза пальцами до висков, и высовывали языки до тех пор, пока бабушка не выходила на крыльцо и не прогоняла их палкой. Так повторялось по многу раз.
Потому я привык играть один. С разрешения матери, по погожим летним дням, наспех выучив очередную басню Лафонтена, я бежал прочь со двора. А нравилась мне из Лафонтена только одна басня – «Лягушка и крыса», и я часто обманывал бабушку, которая по-французски знала плохо, и я, пользуясь этим, часто читал вместо других одну и ту же «Лягушку», только менял местами абзацы:
Sur le bord d'un marais égayait ses esprits.
Une grenouille approche, et lui dit en sa langue:
Venez me voir chez moi; je vous ferai festin.
Messire Rat promit soudain… 1
«Так ведь ты ж вроде мне это уже читал, Акимка?» – вскидывала глаза из-под чуть скошенного пенсне бабушка, всё-таки узнавая недавно услышанные строки, а я – я смотрел на неё честными глазами и, говоря на ходу, да нет же, нет, это совсем другая басня – «Лев и его Двор», или «Амур и Безумие», и, выскакивая из дому, быстро шёл задними дворами мимо нашей улицы, чтобы, едва завидев мелькающие голые пятки своих врагов, тотчас умчаться на окраину села. Там, за разрушенной мельницей, в низине ползущего на несколько километров оврага, я проводил долгие часы среди зарослей лещины и цветущего боярышника, среди частых берёз, представляя себя путешественником на необитаемом острове: таким, как шотландский моряк Александр Селкирк, известный миру как Робинзон Крузо – из книжки, что мама читала мне на ночь вместо сказок.
Я сделал себе шляпу из больших лопухов, перевязанных за корешки старой бечёвкой из конюшни. Под большим козырьком выпуклого края оврага построил халабуду из подобранных в лесу прутьев. С длинной крючковатой палкой, выструганной из дубовой ветки, что я нашёл на дне оврага после грозы, как бывалый моряк, со старой трубкой во рту, стащенной с чердака, я выходил из своего укрытия наверх, на холмы за оврагом, и без конца вглядывался вдаль, обозревая владения своего острова. Я представлял себе, что вокруг – шумит и волнуется не трава, а океан; над головой кричат не сороки, а чайки и качают длинными узкими листьями не какие-то там обыкновенные калины и берёзы, а пальмы. Слушая, как где-то совсем близко по многу раз повторяет свою песню кукушка, я мысленно сажал её себе на плечо, и это уже был говорящий белый какаду, и мы разговаривали с ним по-английски. Английского я не знал, и потому слова приходилось придумывать на ходу. Но попугай не жаловался и, несмотря на то, что каждый раз я обращался к нему с новыми словами, всегда меня понимал.
Потом меня отдали в младший класс гимназии для разночинцев в Смоленске, и, когда я спросил маму, кто такие разночинцы, она сказала, что это дети отставных солдат и непривелигированных дворян, которые не поступают на государственную службу по предписанию, не имеют поместий и потому должны жить за счёт своего ума, а не по принадлежности к барскому сословию.
Она говорила это, пока мы ехали на извозчике от Талашкина до местечка Рай. Нас сильно трясло, пыль с дороги попадала мне в нос и скрипела на зубах, а в светло-серых глазах матери пряталась горечь, и голос у неё два раза чуть дрогнул – на слове «не имеют», и на фразе «своим умом». Из этого объяснения я понял, что рассчитывать на чужую помощь мне не придётся, что мы благородные, но бедные, и что зарабатывать на жизнь надо своим умом. Только что для этого надо будет делать, я не знал.
А ещё мне показалось любопытным упоминание о детях отставных солдат.
– А кто у нас был отставным солдатом? – спросил я маму, когда извозчик подкатил к версте с надписью «Рай». – Конюх Лесовой?
Такая у него была фамилия – Лесовой Пётр Петрович. Он жил через три дома от нас, пас лошадей, что выкупил от местного помещика, сдавал их в аренду для всякой надобности, посему вёл независимый образ жизни и часто катал меня на каурой кобыле Русалке, после чего иногда приходил к бабушке откушать чаю и посудачить о хозяйственной жизни. Потом они долго играли в карты и пили вишнёвую настойку и даже два раза крепко поругались из-за проигрыша, и бабушка в сердцах кинула в него картами.
– Нет, какой Лесовой?! – возмутилась мама. – Он нам даже не родственник.
И по её досадному тону я понял, что отставным военным мог быть только один человек. Отец, которого я не знал. Я не хотел её злить и потому ничего о нём не спросил.
Позже, из разговора матери с директором гимназии по фамилии Дудка, – невысоким человеком в длиннополом сюртуке, щурившимся на свет подобно кроту и смешно кивающему лысой головой в такт собственным словам, – я впервые услышал упоминание имени морского офицера Тоёды Райдона и сразу понял, что это имя было как-то связано со мной, несмотря на то, что раньше я этого имени никогда не слышал и что записали меня в реестре учеников гимназии Акимом Родионовичем Белозёрцевым. Из разночинцев.
1
У берега пруда откормлена, жирна,
Предавшись сладкому мечтанью,
Сидела Крыса: видимо, она
Совсем была не склонна к воздержанью. – Франц.