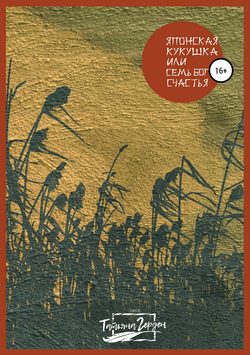Читать книгу Японская кукушка, или Семь богов счастья - Татьяна Герден - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
4
ОглавлениеПервый год в гимназии стал для меня сплошным кошмаром. Хотя гимназическая форма мне очень нравилась – мундир с блестящими пуговицами и синяя фуражка с чёрным козырьком, – все надо мной подсмеивались, сбивали фуражку, и мне часто приходилось поднимать её с пыльного пола или того хуже – из грязи, если это происходило на прогулке после дождя, и, как соседские мальчишки в Талашкине, мои однокашники по гимназии не пропускали ни одной возможности надо мной подшутить. Они подкладывали мне под подушку дохлых жаб, стаскивали с меня одеяло, когда я спал, и всячески старались унизить меня, кто как только мог. Здесь меня тоже называли япошкой, басурманом и почему-то чернорылкой, хотя моё лицо было бледнее некоторых из них, но вскоре, после отчаянной драки, за которую меня посадили в карцер на добрых три дня, ко мне прочно приклеилась новая кличка – японская кукушка, которую часто для удобства сокращали до слова «якушка».
А дело было так. После Закона Божьего дьяк Милентий отпустил всех воспитанников на перерыв, в продолговатый двор гимназии, огороженный высокой каменной стеной. Я любил и одновременно боялся перерывов, потому что, с одной стороны, это было единственное время, когда я мог насладиться своим угрюмым одиночеством, спрятавшись в отдалённых уголках небольшого парка, разбитого у дальней стены двора, и там, среди застывших в камне безводных фонтанов, раскидистых клёнов, лип и берёз предаться сладостным воспоминаниям о моём острове. А с другой стороны, каждую минуту я ожидал подвоха и злых насмешек своих однокашников, и, пока я пытался скрыться от них в парке, два или три человека обязательно успевали либо сбить мою фуражку и затоптать её в пыль, либо подставить мне подножку так, чтоб я упал и сильно расшибся.
Зимние месяцы бывали особенно страшными для меня, потому что деревья и кусты стояли голые и спрятаться от гадких насмешек было негде. Тогда я пуще всего тосковал по родному острову, вспоминал свою хижину из старых, скрюченных веток и подобранных досок, шляпу из лопухов и подзорную трубу из тростника и подолгу мысленно разговаривал со своим верным какаду – лесной кукушкой, которую научился довольно хорошо передразнивать на её родном языке.
За этим занятием меня и застал самый злостный мой насмешник – Аркашка Хромов, сын богатого купца, которого никак нельзя было принять за отпрыска родителя-разночинца или отставного солдата; принят он был в гимназию только лишь благодаря тому, что папаша его регулярно ссужал гимназию дровами, чернилами, бумагой и пенькой. Я до сих пор не знаю, для чего учебному заведению нужна была пенька, но Аркашка чувствовал своё превосходство над всеми мальчиками, в числе которых были и настоящие сыновья или внуки отставных солдатов, включая ветеранов Наполеоновской войны. Хамству Аркашки не было предела. Он плевался в классных комнатах, справлял нужду, не доходя до уборных, расположенных во дворе за зданием гимназии, вертелся на уроках, как флюгер, не слушая объяснение учителя, и всем своим видом показывал, что именно он тут хозяин. Учителю словесности Тихомирову Аркашка сказал, что тот длинноносый болван, а немцу Готтшаейру даже умудрился плюнуть между глаз, когда тот потребовал от Аркашки спряжение глагола lesen в Plusquamperfekte.
– Не лезь ты ко мне, немецкое отродье, со своими шлезен-gelesen! – крикнул ему злобно Аркашка, запутавшись в глаголах как корова в лесной чаще. – А то сейчас дядьку папашиного позову, так он тебе покажет! Отвесят тебе gelesen на всю твою инородскую физиономию!
Учитель не снёс такой наглости и треснул Аркашку тростью по шее, за что через несколько дней был уволен по причине профессиональной непригодности из-за непочтительного отношения к воспитанникам. Вместо Готтшайера взяли молоденькую сухощавую фройляйн Kiebitz, она жутко боялась Аркашки, и какую бы грамматическую чушь он не порол, повторяла как заводная: «Sehr gut, Herr Kromoff, sehr gut!»
Другие мальчики водились с Аркашкой только из страха и раболепия. Многие из его свиты были мне даже симпатичны, особенно Костя – сын профессора Коньковича из академии лесничества; может, от того, что Костя, как и я, был черноволос и чернобров, только глаза не чёрные, как у меня, а серые с желтоватыми прожилками, и смотрел он ими не робко, пряча взгляд за ресницами, а прямо и дерзко, и тем не менее – незлобиво. Понимая положение дел, я даже не слишком злился на Костю, когда он, по наущению Аркашки Хромова, сбивал мне фуражку или капал чернилами в суп. Но в тот злополучный день, когда Милентий отпустил нас на перерыв, и я, по обыкновению, спрятался за высокими липами, устроившись на траве за полуразрушенной беседкой в кустах жимолости, и не заметил, как Костя и Аркашка выследили меня. Была поздняя весна, я дышал горьковатым ароматом отцветающей сирени, представлял своего верного какаду у себя на плече и, обращаясь к нему – наперснику своих дум и забот, – сначала говорил с ним по-английски, как привык, только что придуманными фразами и несуществующими словами и, на свою беду, увлекшись, в конце решил два раза прокуковать. Тотчас из-за ствола старой липы я услышал нахальный Аркашкин смех.
– А ну, Костька, наподдай этой кукушке японской Sehr gut! – с радостью скомандовал Аркашка, запуская в меня пулькой из рогатки. Пулька больно щёлкнула меня по носу, я закрыл лицо руками и низко наклонил голову, чтобы, если Аркашка снова бы в меня стрельнул, то промахнулся. Отчего-то Костя медлил, и Аркашка заерепенился:
– Ну ты, конь челобитный, оглох, что ль? Кому говорю – лезь до него, да всыпь ему по первое число, чтоб не куковал здеся, как петух неощипанный.
Надо сказать, что у Аркашки была манера соединять совершенно несоединимые по смыслу слова. Память у него была хорошая, а вот пониманья – никакого. Поэтому, услышав словосочетание «конь челобитный», я невольно засмеялся, потому что конь не мог быть челобитным, потому как челобитная – это имя существительное, которое означает прошение к особе царского статуса, так объяснял значение слова учитель Тихомиров. И кроме того где это видано, что бы петух куковал? То ли от отчаянья, то ли от того, что и впрямь слова эти показались мне жутко смешными, я захохотал, да так, что никак не мог остановиться.
Аркашка побагровел от гнева:
– Ты… надо мной смеяться?! Да я тебе…
Он перепрыгнул через высокую траву и прямиком направился ко мне. Костя тоже вышел из-за дерева, но тут же в нерешительности остановился. Видимо, его поразила моя реакция на Аркашкину глупость. Драться со мной ему не хотелось, но ослушаться Аркашку он боялся.
– Ну ты, япошка желторотый, чё ты тама смеялся? – не унимался Аркашка и больно ущипнул меня за плечо.
Я взвыл от боли. Обычно я никогда не ввязывался в драки, потому что бабушка говорила, что православные первыми не лезут в драку, и даже не отвечают на тумаки, потому как Христос велел решать споры миром. Но, продолжала обычно бабушка, ежели рядом лежит палка, а тебе уже два-три тумака наплели, да ни за что – тогда покажи, Акимка, характер, хватай палку и отмутузь негодника по полной, потому как не зря, видать, Господь палку-то вблизи тебя ветром подбросил.
Глянул я по сторонам, а тут, как по заказу – так и есть! Вот она, родимая – лежит недалеко от дерева, там, где Костя стоял, длинная суковатая палка. Только я от Аркашки первый и второй тумак принял, тут же рванулся к палке, схватил её и давай нахала мутузить. Тот от неожиданности дар речи потерял, глаза расширил, рот открыл и, кроме «да я», «да ты», ничего вымолвить не мог.
Костя тоже струхнул, за дерево спрятался. А я как будто всю жизнь палкой орудовал: как начал ею вертеть в разные стороны, как шпагой – что тебе пират из Робинзона Крузо, – да так, что у Аркашки вскоре нос распух как помидор, а из глаз брызнули слёзы.
– Останови-и-и его, Ко-о-нь, – завопил что есть мочи Аркашка, наконец обретя дар речи, – останови-и-и его, а то дух испущу!!!
Костя кинулся ко мне, но и его ждала моя палка, и если бы наши взгляды не встретились, его – напряжённый, с опаской, и мой – гневный, разъярённый, то и ему бы досталось, как Аркашке.
Тут другие ребята на шум прибежали, и у них – глаза на лоб, где это было видано, чтоб Аркашку Хромова по мордасам мутузили, да ещё палкой? А я и впрямь разошёлся, как будто палка сама пошла Аркашке по рёбрам плясать. Я уж и остановиться хочу, да не могу – видно, слишком долго мой гнев копился. Повторяю только, как фройляйн Kiebitz:
– Sehr gut, Herr Kromoff, sehr gut!
Кабы Костя Конькович не ухитрился выхватить из моих рук палку и оттащить меня от злоумышленника, я бы вполне мог того убить…
…Меня продержали в карцере три дня. Поили водой и три раза в день давали мятый толкушкой горох без масла и соли. От него начинал жутко болеть живот и приходилось часто бегать в уборную под присмотром дежурного надзирателя. Видимо, вздутие живота использовалось педагогами гимназии тоже как метод воспитания непокорных учащихся. Вернувшись, я подолгу смотрел на тёмные, осклизлые стены и крошечное оконце почти у самого потолка и думал. Как же так получилось, что я, человек спокойный и незлобивый, ранимый и сам страдающий от несправедливого отношения больше других, вдруг так разъярился? Или это в меня вселился бес? Я озирался по сторонам, ожидая увидеть присутствие нечистого, но вокруг было тихо. Наверное, он ещё во мне сидит, думал я и удивлялся тому, что ни тогда, во время драки, ни после я совершенно не считал себя виноватым, и Аркашки мне не было жаль ничуточки. Я долго молился, просил у Бога прощения, но в глубине души отчего-то понимал, что ни заступись я за себя – долго мне ещё издевательства Аркашки пришлось бы терпеть, и что не даром в Библии сказано, если сам за себя не заступишься, то кто, и если не сейчас, то когда?
Я лежал на кривой железной кровати с прохудившимся матрасом, заложив под голову руки, и думал, глядя в стылую темноту. Нет, не может быть, чтобы только я был виноват в содеянном. Ведь, если бы Аркашка не стал задираться, щипать и ударять меня, я бы его и пальцем не тронул. Значит, внутри меня родилось что-то другое – не ненависть, а стремление проявить силу духа. На душе почему-то становилось хорошо от мысли, что я проучил негодяя и что это было нужно не только мне, но и ему. Да и наличие палки, так вовремя оказавшейся в нужном месте, подсказывало мне, что дело я совершил богоугодное, потому что нельзя сносить глумления над собой, ибо каждый из нас достоин лучшей доли и уважения. Чувство гордости за отмщение оскорблённого человеческого достоинства приятно холодило мне лоб. И тут же липкой удушливой лентой горло сжимал страх. Избивать ближнего – это грех. И устраивать дела свои надо миром. В голову некстати лезли церковные гимны «Иже Херувимы» и «Да молчит всякая плоть человеча…», я путался, снова вопрошал Бога об истинном смысле своих намерений, но Он молчал и, казалось, внимательно меня слушал откуда-то свысока, под отдающим плесенью потолком карцера. От противоречивости сих мыслей я плохо спал, долго ворочался, и во сне мне снова и снова являлся ревущий Аркашка с разбитым в кровь носом. Такова была цена победы над злом.
…С тех пор никто меня больше не трогал и все стали звать просто Акимкой или якушкой-кукушкой. И я не обижался. Аркашка притих, обходил меня стороной. А к осени папаша его, купец Хромов, решил дело своё расширить. В Москву с семьёй подался. С той поры я Аркашку не видел. Зато подружился с Костей Коньковичем и навсегда запомнил горький, похмельный вкус победы. Горький – оттого что меня вынудили быть злым против моей воли. А похмельный – оттого что, как оказалось, ничто так человеку не кружит голову, как мысль о том, что даже самый никудышный воитель часто на самом деле не слаб, а силён и свободен в выборе своего оружия.