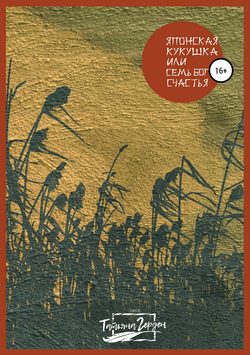Читать книгу Японская кукушка, или Семь богов счастья - Татьяна Герден - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
15
ОглавлениеКостя пробыл у нас два дня. Надо ли говорить о том, что все в него просто влюбились. Бабушка чуть ли не с порога принялась оживлённо болтать с ним, как будто они были знакомы не пять минут, а пять лет, и тут же распорядилась зарезать самого крупного петуха, чтобы приготовить царский обед в честь гостя. Да, да, она так и сказала – царский. В честь гостя.
Лесовой долго показывал ему лошадей и тут же разрешил прокатиться на своём лучшем буланом – Мушкете, жеребце, недавно купленным у купца Лыкова, – хотя мне приходилось вымаливать подобное разрешение часами. При этом Костя сразу чуть не упал c седла, но Лесовой даже и бровью не повёл, хотя мне всегда строго выговаривал, а тут радостно шкандыбая на деревянной ноге, которая недавно заменила ему больную, распухшую от небольшой царапины ногу, да так, что пришлось её спешно удалить в уездной больнице по самое колено, чтоб не началась гангрена, подтянул чумбур, поправил подпругу, и даже незлобиво шлёпнул Мушкета по блестящему крупу, чего никогда не делал, потому что только сдувал с него пылинки. Мушкет лягнулся, обиженно фыркнул, дёрнул шёлковой чёрной гривой, обдав всех терпким духом конского навоза, и понёсся вскачь, словно его ошпарили. Но Костя успел крепко схватиться за поводья и остановить его у самой кромки загона для выезда лошадей, и при этом Лесовой даже не испугался ни за наездника, ни за коня, а ещё и похвалил Костю за ловкое умение управлять скакуном в опасную минуту.
– Вот это да! Молодец! Не растерялся, – нахваливал Костю Лесовой, поскрипывая деревянной ногой, как Джон Сильвер, вороша широкими вилами сено и время от времени потирая себе шею за воротником косоворотки, многочисленными нагрудными карманами, смахивающей на армейский сюртук, что было знаком оживлённого волнения.
– Не зря у него фамилия лошадиная, – сказал я, вспомнив смешной анекдот писателя Чехова из старой «Петербургской газеты», который мне вслух читала бабушка, и мы громко смеялись.
– Это какая же? – удивился Лесовой.
– А такая, – гордо сказал я, как будто это была не Костина фамилия, а моя. – Конькович.
Лесовой так и подпрыгнул.
– Ух ты! – свистнул он восхищённо, откладывая вилы и мечтательно закуривая самокрутку, любуясь, как Костя делает круги по загону. – Фамилия знатная! Да только больше про коньки, а не про коня…
– Ну пусть не лошадиная, – сказал я, вспомнив катание на прудике за Костиным домом. – Всё равно красивая…
«А у меня? – подумал я. – Какая фамилия у меня? То ли Белозёрцев – белое озерце, что больше пристало к девице, то ли вообще непонятно что – Тоёда». И в моём воображении снова вырос кол, возвышающийся надо мной большой, чёрной горой, окутанной густым туманом…
В общем, Костю полюбили все. Даже маман, которая к тому времени вернулась из Санкт-Петербурга. Уставшая и запылённая от тряски в повозке, она буквально ожила, увидев Костю, и вместо привычного «Акиша, мне нужно побыть одной» сказала, что приведёт себя в порядок и непременно будет к обеду.
По-видимому, что-то было в Косте такое, что позволяло ему сразу расположить к себе людей, и, даже не зная его, ему улыбались, смеялись над каждой его шуткой и тут же хотели пожать ему руку, как будто желали убедиться, что он и на ощупь такой же славный, как и на глаз – статный, сильный и приятственно осязаемый. Другой бы на моём месте приуныл и почувствовал себя жалким неудачником. Но только не я. Я прекрасно их понимал. Я и сам, когда в первый раз увидел Костю, почувствовал к нему какой-то необъяснимый интерес – его дерзкие, чуть опускающиеся к вискам глаза искрились озорством вместе с располагающей к себе теплотой, лоб был высок и благороден, брови чуть приподнятым посередине уголком ломали аккуратную прямоту линий и придавали его взгляду оживлённое ребяческое любопытство. К тому же он никогда не врал и никого не боялся, при этом не лез на рожон, выставляя себя на показ, и потому я недоумевал, как такой замечательный мальчик мог быть в дружбе с гадким Аркашкой Хромовым.
Но это было в прошлом. А теперь мы друзья. И вот Костя у меня. «Как я тосковал по нему! А он… вот он – здесь. Появился. Значит, тоже скучал по мне», – так думал я, глядя на искрящиеся глаза бабушки, с любовью пододвигающей поближе к Косте вазочку с вареньем из ревеня с клубникой.
– Бьюсь об заклад, Константин Дмитрич, вы такого ещё не пробовали, – бабушкин голос звенел как у моложавой свахи, расхваливающей невесту. – Все варят просто из ревеня с добавлением яблок для более нежного вкуса, а мы вот, – кивнула она в сторону окна, как бы показывая, откуда у нас ревень – со двора, – любим добавить в него ещё и клубнику, чтобы и слаще было, и ароматнее. Правда, вкусно, Светлана? – обратилась она к дочери, словно та когда-либо участвовала в варке варенья или хотя бы отдалённо интересовалась кухней. После дальнего пути со станции она уже пришла в себя, переоделась, и тоже была слегка оживлена. Если бы мы были одни, без Кости, она бы даже не потрудилась отвечать на такой вздор, а сейчас просто улыбнулась и тихо сказала:
– Да с клубникой получается слаще, – и тонкой кистью в кольцах поправила причёску, а Костя почему-то покраснел и сконфуженно пробормотал по-французски что-то вроде «Oui, je vous remercie, je l'ai essayé, très savoureux» («Да, спасибо, я уже пробовал, очень вкусно»), и при этом перепутал правильное окончание в слове essayé и уронил серебряную ложку, чего с ним никогда не бывало.
Сначала я не понял причины его смущения, а потом подумал, что это для меня дама, сидящая напротив нас за столом, – изящная, с густыми каштановыми волосами, аккуратно уложенными на затылке, в простом, но очень красивом коричневом платье с белым воротником, чудно оттеняющим её бледное лицо с живыми лучистыми глазами, – для меня она была мама, в обществе – маман, а для других людей она была просто Светлана Алексеевна Белозёрцева, и неудивительно, что при виде такой прекрасной дамы молодой человек начинает конфузиться, краснеет и роняет столовое серебро.
Но это всё были досадные моменты, которые никак не могли испортить нашего праздника. Мы катались верхом, болтали как сороки, пару раз сходили на рыбалку с Лесовым на пруд и, хоть ничего не поймали, без конца хохотали как дураки, без очевидной на то причины. Впрочем, причина была одна – нам было очень хорошо вместе, и мысли одного так ловко цеплялись за слова и мысли другого, что в какой-то момент наши головы словно соединялись в один на двоих обоюдный разум, и он, как челнок, бегающий за нитями на ткацком станке, чудно соединял разнородные пряди в один неповторимый узор, был подвижен и гибок в подборе тем для разговора, равно интересным обоим, и потому мы с лёгкостью говорили ни о чём и обо всём, и каждая минута, проведённая вместе, была полна какого-то будоражащего, волнующего счастья.
Перед отъездом Кости мы притихли. Мне захотелось показать ему свой овраг – бывшее пристанище моего одинокого, апокрифического робинзонства. Сам я туда больше не ходил, словно боялся его дурного влияния на моё расположение духа, но странное чувство вины, связанное с тем, что я так внезапно расстался с местом своих мечтаний и бросил его, как больного, в минуту скорби о былом, это чувство никак не покидало меня, и потому, видимо, меня так тянуло снова побывать там, как тянет на старое, заброшенное кладбище, что манит заросшими плющом надгробными плитами, хранящими тайну, которую знают только эти плиты и ты сам. А с Костей – с Костей не страшно, потому что я буду не один, и ни за что не поддамся тёмному влиянию своих тяжёлых эмоций, которые в прошлый раз так больно исполосовали мне грудь.
Интересно, что пока до оврага было далеко, мы, по обыкновению, весело болтали, но по мере приближения к моему острову как-то смолкли, и каждый задумался о чём-то своём. Вдруг Костя остановился и сказал:
– Слушай, Аким, а ты знаешь, почему тебя не приняли в академию?
Я вздрогнул. Вопрос прозвучал слишком резко, как удар грома при полной тишине перед надвигающейся грозой. Мне стало не по себе.
– Нет, – пожал я плечами. И повременив немного, добавил, поддавая пыль носком башмака: – Наверное, им что-то не понравилось в моём происхождении.
Костя вскинул на меня свои пытливые глаза.
– Якушка… – он осёкся. – А ты хотя бы сам-то знаешь, что ты… японец?
Он до сих пор называл меня по старой привычке Якушкой. Это всегда звучало забавно и напоминало мне о счастливых днях нашей детской дружбы. Но сейчас моё старое прозвище вдруг зазвучало со всей силой своего уничижительного смысла.
Я хотел было ответить Косте, что, в принципе, да, знаю. Но в то же время не знаю, вернее, с некоторых пор я уже точно не знаю, что такое быть японцем или русским, или кем-то ещё, ибо я просто человек, и что раньше для меня было всё предельно просто – я был сыном своей матери и внуком своей бабушки, но теперь оказалось, что я был ещё и сыном своего отца, хотя это было тоже естественно, но как будто одновременно и противоестественно, потому отец мой был бог знает откуда и бог знает, кто, и от сложности этих мыслей я не нашёлся, что сказать, и просто молчал, уставившись на Костю. Вдобавок ко мне вернулось то гадливое ощущение своей неполноценности, какое пришло ко мне в разговоре с маман, и ещё такое же тяжёлое чувство, что Костя так же, как и ректор академии, тоже уличил меня в чём-то постыдном, чего я не совершал.
Краска стыда стала заливать мне шею, щёки и уши. Они горели так, словно кто их керосином облил и поджёг или оттрепал вволю. Я молчал и силился как-то оправдаться. Но в чём? В том, что скрыл от Кости своё происхождение? Да я вообще о нём никогда как следует не думал. Зачем? Неужели и для него – для славного, умного и обожаемого мной Кости – это было так важно, что могло поставить под сомнение нашу дружбу? «Неужели он приехал именно для этого?!» – с ужасом подумал я, и сердце моё сжалось от страха.
Костя почему-то тоже молчал, хотя видел, что мне трудно собраться с духом и признаться в таком странном факте, что я человек чужой крови. Но, думал я, кровь хоть и может быть чужой, если, например, речь не идёт о родственниках, то тогда мы с ним – с Костей, несомненно, люди чужой крови, но тогда, скажем, Лесовой и Костя тоже люди чужой крови, потому что они не родственники, и тогда все люди, кто друг другу не родственники – чужие, что не мешает им быть друзьями, уважать друг друга, и даже любить, и вообще, кровь – это всего лишь красная жидкость солёного вкуса, она не может быть своей или чужой, или другого цвета, потому что она у всех одинаковая, и разве это неочевидно? В общем, абсурдность этих размышлений ещё больше затуманила моё сознание, и я не знал, что сказать Косте. А он смотрел на меня, ждал ответа и молчал. Молчал. Это было невыносимо.
Наконец я отвернулся от него и начал быстро спускаться по склону оврага. По шуршанию сучков в траве и запаху потревоженных прелых листьев я слышал, что Костя идёт за мной. И ещё я слышал его шаги спиной – по позвоночнику бегали неприятные, злые мурашки, колючие, как и Костин взгляд. Или мне это только показалось?
– Подожди! – крикнул он мне вдогонку. – Аким! Куда ты побежал?
Но я упрямо спускался вниз, не желая снова видеть Костины глаза. Щёки мои горели, а уши словно забило ватой. Подгоняемый стыдом и внезапно вспыхнувшим, невесть откуда взявшимся упрямством, я не оборачивался и бежал вниз. Вот и дно моего острова. Стоит только перепрыгнуть его верхнюю границу – старую колоду из ствола почерневшего от гнили дуба, лежащую поперёк того места, что когда-то служило оврагу козырьком, и я буду там.
Р-раз! Я разогнался и перелетел через колоду. Но с прыжком не рассчитал и, не заметив длинную крючковатую ветку, зацепился за неё штаниной и кубарем скатился вниз. Моё тело пронзила острая боль. Взгляд уткнулся в ворох сгнивших листьев, среди высоких стеблей осоки, и ещё во что-то пёстрое с серыми крапинками в траве, издающее ужасный запах падали. Я сначала никак не мог разобрать, что это было, но через мгновение, услышав встревоженный голос Кости «Аким, ты где? Жив?», я понял, что это была мёртвая кукушка, видимо, не так давно сбитая выстрелом охотника, целящегося в белку. И хотя, скорее всего, это была совсем не та кукушка, с которой мы были знакомы, играли в прятки и которую я представлял своим английским какаду, мне стало так жаль её, как будто это была не птица, а тень моей самой горькой печали, взбаламученной моим падением, зеркально отражающим нелепость моего происхождения, и поэтому я, отвернувшись от торчащих в разные стороны тёмно-серых перьев со следами почерневшей высохшей крови, горько заплакал.