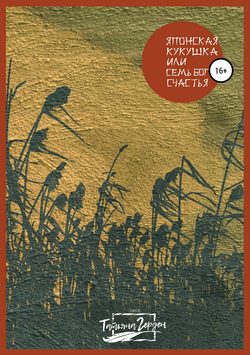Читать книгу Японская кукушка, или Семь богов счастья - Татьяна Герден - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
7
ОглавлениеПосле случая с Аркашкой меня больше никто не дразнил. Мальчишки, что потише, обходили меня стороной, а драчливые даже старались как-то угодить – предлагали подежурить вместо меня в классе, раскладывая учительский пюпитр перед уроком, или убирать шахматы в футляр после игры. Но – что странно – учителя тоже стали смотреть на меня по-другому. Раньше меня в классе как будто и не было. Я всегда внимательно слушал урок, но когда поднимал руку, чтобы ответить, спрашивали всегда других, хотя они и не знали правильного ответа. А теперь все словно прозрели – наоборот, если поднимали руки сразу несколько учеников, то всегда спрашивали первым меня. Поначалу я даже оглядывался – на кого указал учитель, но нет, он указывал теперь на меня. Неужели побить одного гадкого мальчишку хватает для того, чтобы тебя начали уважать? И разве не добро должно было привлекать внимание больше, чем кулаки и задиристость? Эти вопросы меня изводили, я вспоминал наставления бабушки и матери, что учили меня милосердию и благородству, и продолжал путаться в истинах на уроках Закона Божия.
Мы заучивали наизусть послание к коринфянам апостола Павла, где в главе 13-й было сказано:
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий».
Полностью разделяя смысл сказанного, душой и мыслями, я всё-таки не мог понять, почему все об этом говорят, и даже заучивают, а поступают наоборот? Но, может, чтобы понять эти мудрые истины, надо было бы сначала хорошенько поразмыслить?
Ведь в другой главе этого же послания говорилось:
«Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше».
То есть, думал я, без издевательств талашкинских мальчишек и в особенности Аркашки Хромова мои страдания не приумножились бы, и я бы не смог увидеть сути вещей – что любовь и милосердие сильнее зла? Значит, гадкие люди необходимы для понятия сути вещей? Я морщил лоб, старался понять, как это получается, что случай с Аркашкой помог мне избавиться от страха и в то же время определённым образом ожесточил мою душу, ведь теперь я твёрдо знал, что никому не дам спуску, начни они меня снова дразнить. От этих мыслей пухла голова, и я не мог найти утешения даже в одиноких прогулках в укромных уголках парка.
Как-то раз я сидел за кустом жимолости, недалеко от места избиения Аркашки – меня почему-то всё время тянуло туда как магнитом – и размышлял о случившемся. Тут я почувствовал на себе чей-то взгляд. Так и есть – вскинув голову, я увидел Костю Коньковича. Он смутился и вышел вперёд, неловко поправляя фуражку.
– Ты чего? – спросил я, на всякий случай сжав кулаки.
А вдруг Костя захочет отомстить за приятеля?
– Ничего, – сказал Костя.
Было видно, что он что-то хочет сказать, но или не знает – как, или не знает – что именно. Мы помолчали.
– Ты это… якушка… – наконец сказал Костя, поправляя ремень, – но тут же осёкся, невольно обозвав меня прозвищем, данным моим обидчиком, – а ты здорово дерёшься. Тебя теперь все того… боятся как чёрт ладана.
Я молчал и смотрел на Костю.
– А ты? – наконец спросил я.
Костя зарделся и метнул на меня дерзкий взгляд:
– А я нет, – но тут же опустил голову и добавил почти шёпотом: – Ну разве что самую малость…
Я улыбнулся. Костя тоже. Он покопался в карманах и вытащил перочинный ножик.
– Глянь, как метну, – сказал он и, выбрав небольшое дерево, отошёл от него на несколько шагов и ловко метнул ножик, вытащив его из миниатюрных ножен. Вжик! Ножик упруго вонзился в ствол.
Костя торжествующе посмотрел на меня. Я понял, что это вызов. Но не такой, как у Аркашки, по подлости, а так – по-приятельски. Я встал, отряхнул брюки от сухой травы, подошёл к стволу, вытащил ножик из ствола. Он ярко блеснул на солнце остро отточенным лезвием. Хорош! Но я никогда не метал ножики в деревья. И даже в заборы. Как быть? Показать Косте, что я никакой не герой? Нет, стыдно… Я приметил, как он ухватил ножик за рукоять, прицелился и метнул. Я сделал то же самое. Вжик! Клинок попал в ствол, зацепился намного ниже того места, где пришёлся Костин бросок, но не удержался и упал в траву.
Костя обрадовался.
– Нет, не так. Хочешь, научу?
Я кивнул. Мы метали ножик весь перерыв между занятиями и вернулись на уроки друзьями. Я и не знал, что такого друга, как Костя, у меня больше не будет никогда. Мы с Костей понимали друг друга с полуслова, спорили о разных интересных вещах и всегда находили, чем заняться, куда бы нас ни заносило. Оказывается, Костя, как и я, бредил рассказами о таинственных землях и необитаемых островах, читал про Робинзона Крузо, только он больше увлекался историями про знаменитых флибустьеров типа Генри Моргана и Фрэнсиса Дрейка, и у него дома не только была настоящая корабельная подзорная труба, купленная отцом в антикварном в Санкт-Петербурге – предмет моей нескрываемой зависти, – но и настоящий попугай по имени Тортуга, конечно, не такой большой, как мой воображаемый какаду, а крупный зелёный амазон, тоже достаточно красивый.
Как-то с разрешения матери и бабушки Костя взял меня к себе в гости на Рождество. Мы провели у него несколько незабываемых дней, читали вместе пиратские истории, мастерили козью ножку-арбалет из старых хомутов, пеньки и порванных гитарных струн, чертили карты пиратских маршрутов и учили Тортугу кричать «Пиастры! Пиастры!» А на утро после сочельника, под ёлкой, к нашему обоюдному изумлению, мы нашли две пары новеньких коньков с блескучими лезвиями наподобие перочинных ножиков, только в раз десять побольше, и весёлую записку на шнурке:
«А ну-ка, Конькович, подтверди фамилию! Научись кататься сам и научи друга!»
И в несколько последующих зимних приездов к Косте мы без устали учились скользить по бугристому, мутному, крошечному, в выбоинах, катку – залитому водой лебединому прудику за домом Коньковичей, под присмотром смешного долговязого учителя естествознания Тарасова, коллеги Костиного отца по лесной академии. Я был счастлив, как никогда, и по сей день, вспоминая события своей жизни, не могу припомнить времени более счастливого, чем когда усталые и побитые от бесконечных падений на катке, мы с Костей, румяные с мороза, садились за большой круглый стол с пузатым медным самоваром пить чай, набивали рот блинами с маслом и пирогами с гречневой кашей и громко смеялись над тем, как Тарасов сам несколько раз комично падал прежде, чем показать нам очередной технический поворот на льду. Поддаваясь всеобщему оживлению, попугай Тортуга беленился, начинал метаться по клетке, дико щёлкать клювом и совсем не к месту вдруг бесновато вскрикивать «Пиастры, пиастры!», кося на нас круглым чёрным глазом, отчего мы с Костей хохотали ещё сильнее, что до смерти пугало Костину маму Аделаиду Карповну, высокую полную даму в причёске с буклями, взволнованно повторяющую грудным голосом:
– Ах, накройте его клетку шалью, господа, ну накройте же…
Годы в гимназии пролетели незаметно. То ли дружба с Костей, имевшего авторитет профессорского сына, то ли от того, что я поверил в себя и больше не стыдился ни своей внешности, ни того, что рос без отца, дела мои пошли на лад. Я хорошо учился, и у меня даже обнаружились таланты, о коих я и не подозревал. Я научился сносно болтать на немецком и французском, щёлкать сложные задачки по математике и начертательной геометрии и писать длинные сочинения, которые зачитывались перед классом на уроках риторики и словесности как образчики правильно выполненного задания. И ректор гимназии со смешной фамилией Дудка по окончании гимназии даже выписал мне похвальный лист за исключительную трудоспособность и успехи в изучении ряда классических предметов и долго, мелко тряс головой, пожимая мне руку.
К концу учёбы я подрос, стал стройнее и уже не был похож на мешок с кашей, как иногда меня называл Лесовой, катая на Русалке, оттого, что я неизменно сползал на бок, и порой, встречаясь взглядом с юношей с пытливыми чёрными глазами и высокими скулами на вытянутом лице, глядящим на меня внимательно и чуть отчуждённо из зеркала, я с трудом узнавал в нём робкого, пухленького мальчика, с чёрными вихрами и ямочками на щеках, перепачканных клейкими крошками засахаренного ревеня, а ведь это был я – тот самый Акимка Белозёрцев, японская кукушка, чернорылка, философ и мечтатель, сын морского офицера Тоёды Райдона, только тогда я об этом ещё ничего не знал.