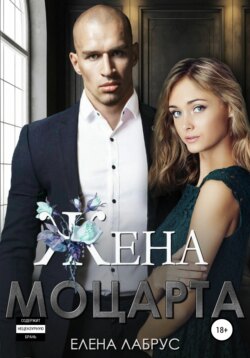Читать книгу Жена Моцарта - Елена Лабрус - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 20. Моцарт
ОглавлениеЯркий свет слепил.
И не было никакой возможности ни отвернуться, ни закрыться от него.
Но я и не хотел. Это был белый свет жизни – яркие лампы тюремной медсанчасти. Я был несказанно рад, что снова его вижу. И ещё больше тому, что мне всё это не приснилось, когда рядом знакомо затянули:
– Спрячь за решёткой ты вольную волю… Выкраду вместе с решёткой…
– Куплет про девчонку мне нравится больше, – прохрипел я и закряхтел от боли.
Я думал бок болел, когда мне отрезали половину печени, но то была щекотка по сравнению с тем, как он болел сейчас, когда ребро разрубила заточка, а из лекарств здесь был, наверное, только просроченный анальгин. Его мне и кололи.
Но это ничего, потерплю.
Главное, что я жив. А ведь уже и не надеялся.
Сколько мог, в ту ночь, когда получил предупреждение, я боролся со сном. Всё думал: это он меня предупредил, что готовится покушение, или решил намеренно нагнать страху, чтобы я ссал, нервничал, дёргался, не спал. Только это бесполезно – он меня всё равно замочит.
Сколько мог не позволял поглотить себя вязкой сладкой дрёме. Но к утру, когда за окнами уже забрезжил рахитичный рассвет, всё же задремал. И проснулся за секунду до того, как в бок мне и вошла чёртова железка.
Я успел схватить руку. Я успел увидеть лицо того, кто склонился над моей постелью. Успел даже выкрикнуть, в тщетной надежде, что он остановится:
– У тебя есть внучка! Она жива, наша…
Напрасно. Меня ослепила, оглушила, выгнула боль.
Не знаю взвыл ли я, заорал.
Кто-то из сидельцев-однокамерников уже долбил в дверь. Кто-то посильнее натягивал на голову одеяло. Кто-то кричал:
– Охрана! Помощь нужна! Тут человек на штырь напоролся. Вы посмотрите, что делается! Да что же вы, ироды, таких кроватей понаставили, что человек во сне бок себе распорол!
– Ай-яй-яй, какой железка торчать! – причитал старый узбек в тюбетейке. Этот явно был из подсадных. Безобидный такой, в полосатом халате. Я запомнил его с обезьянника. Мы вместе просидели часов шесть, и он всё пытался меня разговорить. Всё вопросы задавал.
Кровища хлестала как из недорезанной свиньи. Кровавая лужа становилась всё больше. Все поплыло перед глазами.
Подняли меня или я встал сам. Шёл я или меня вели. Положили на носилки или, когда я упал по дороге, потеряв сознание, меня потащили волоком – я не мог сказать точно. Точно я мог сказать только одно – во мне сделали ещё одну дыру. И на количество площади моего тела их становилось чересчур много.
Первое и единственное, что сказала мне врач, что пришла делать перевязку: угрозы жизни нет.
Остальное я понял сам: и ни то, и ни другое. Катин отец меня ранил, чтобы я оказался здесь. И это была лучшая новость за последние дни. Хотел бы убить – бил бы между рёбер, в печень или почку. Но он проколол мышцу. Лишь потому, что я дёрнулся, заточка поцарапала ребро. Судя по углу удара и сквозную дыру – наколол меня на штырь, сделанный из оторванной от кровати железки, как шашлык на шампур – я даже от заражения крови не умер бы. А зачем – я понял, услышав этот гнусный голосок с соседней койки.
– Не перебивай, это следующий куплет, – возмутился Патефон и хмыкнул, когда я открыл глаза. – Здорово, бро! Ну и дрыхнуть ты здоров! Я уж извёлся.
Если хотят убить, пояснил мне Колян, когда я первый раз пришёл в себя, обычно или инсценируют, или заставляют совершить самоубийство – вешают в камере или вены вскрывают. Убийства начальнику тюрьмы ни к чему. Ему за это не поздоровится. А твоё особенно не на руку.
– А-а-а, – догадался я. – Тебе, засранцу, скучно было одному лежать в тюремной больнице.
Он довольно оскалился новыми белоснежными зубами.
Не знаю, как он уговорил Катькиного отца, не знаю, как всё это провернул и сам оказался здесь – всё это мне ещё предстояло узнать, но, пожалуй, это была лучшая из дыр в моём боку, лучшая новость и лучшая компания за последние дни.
Уже после обеда, когда нас обкололи лекарствами, покормили, и на передвижной металлической тележке, одной на двоих, оставили две кружки воды, я делал вид, что разгадываю кроссворд, чёркая огрызком карандаша в мятом-перемятом, гаданном-перегаданном выпуске «загадок для ума» на газетной бумаге и делился:
– Знаешь, я что не пойму? Детей у него нет. Денег куры не клюют, – имел я в виду графа Шувалова, о котором уже поведал Коляну всё, что знал. – Нахуя ему эти картины?
И ладно «СЕКРЕТ», как мы назвали систему слежения, по имени её создателей: СЕмёнов + КРЕТов. Кто владеет информацией – владеет миром. С ним было понятно: многие хотели бы его получить, купить, отнять – в зависимости от степени наглости. Но картины?
– Могущество? Его не бывает много, – отодвинув белую тряпичную ширму, что символически отгораживала кровати и проскрипела по кафельному полу как несмазанная телега, предположил Патефон. Избитый до синевы, он довольно бодро повернулся на бок, хрустя обтянутым клеёнкой матрасом.
– «Секрет» – да, но вряд ли его прибавят чёртовы картины, – пожал я плечами.
В памяти всплыли Женьки слова: « Номеров семь. Четыре из них картины. Монета – не живопись, но её уничтожили. Остаётся ещё два. Что под этими номерами? »
Шестым номером, очевидно, шла скрипка, которую принесла мама и я её уже продал. Эти деньги вложил в строительство гостиницы. Но что седьмое? Может, всё же Шувалов знает больше, чем я? Он ровесник моего отца. Может, они знакомы? Может, он охотится именно за этим, седьмым?
– Цацки какие? Камень? Бриллиант? – предположил Патефон. – Редкий, уникальный?
– Розовый! – дёрнулся я и скривился от боли. Дурацкая привычка подскакивать! – Женька как-то рассказывала про перстень на руке её матери и княгиню Стешневу, их прабабку, у которой украли редкий розовый бриллиант, две нитки жемчуга и заодно этот дешёвенький перстень. Всю коллекцию нашли, вернули. Но это было в тринадцатом году. А потом революция, гонения, расстрелы, голод, наверняка, этот бриллиант продали. Так и попал он в коллекцию какого-нибудь Вальда. Дорогой. Бесценный. Уникальный.
– И зачем этот бриллиант графу Шувалову?
– Да мало ли! Зачем крали прядь волос Наполеона? А у матери Женьки в том кольце прядь волос Лопухиной, жены Петра Первого, подаренная своему воздыхателю. Может, он дорог ему как память. Может, Вальд обошёл его на аукционе, а граф всю жизнь мечтал иметь эту вещь. Может, с ним связана какая-нибудь романтическая история. А вообще у Вальда украли около двадцати предметов, по данным Скотланд-Ярда – восемнадцать. Но у моего отца оказалось всего семь. А где остальные? Или семь – это те, о которых догадываюсь я, остальные он спрятал в другом месте? А вообще… у богатых свои причуды.
– Кто бы говорил, – хмыкнул он. – Ты тоже вроде человек небедный. Мне кажется, это такие как ты, кто из грязи в князи, обычно жадные до всяких редких бирюлек. А таким как Шувалов, выросший в роскоши, все эти картины-брульянты так, для коллекции разве что.
– В том-то и дело, что такие как он в них разбираются, а таким как я обычно впаривают всякое фуфло, лишь бы подпись стояла пафосная и документик прилагался соответствующий. Только всё это бред, – вздохнул я, – не знаю, почему вспомнился ёбаный розовый бриллиант. Потому что смотри… Коллекция Вальда. Спёр её мой папаша. Желает её получить Шувалов. Мелецкие к ней каким боком и этот камень? Хотя…
Я задумался. На самом деле многое связывало эти громкие фамилии. И ладно Шувалов аристократ до мозга костей. Злой, жестокий, властный, но, мать твою, потомственный аристократ, а потому в теме. Вот какого хера Ева опять здесь крутится? Какого хера ждала семь лет, если мечтала отомстить, и припёрлась только сейчас? Вот с кем действительно было нечисто. И я, конечно, догадываюсь, что она тоже охотится за коллекцией Вальда и срать хотела на всех, кроме себя любимой. Но какие у неё козыри?
Я нервно побарабанил пальцами по железному боку кровати.
– Блядь! Как же не хватает связи. Самой элементарной, интернета. Хоть про бриллиант бы почитать. У тебя другие версии есть? Что там может быть ещё?
– Да хуй знает, – почесал лысеющую макушку Колян. – Эликсир бессмертия? Кольцо всевластия? Или вдруг там какой-нибудь афродизиак, повышающий мужскую силу.
Я прыснул со смеха и схватился за живот.
– Сука! Не смеши, больно же!
Глава 21. Моцарт
– Не, чо сразу не смеши, – хмыкнул Патефон. – Может, твой Шувалов боится утратить власть? Стареет. Более молодые, ушлые, предприимчивые наступают ему на пятки. Конкуренты не дремлют. Сколько, ты сказал, людей в твоём списке?
– Около десятка.
– И все они могли быть заинтересованы в коллекции этого Вальда-Хуяльда?
– Или в «Секрете». Но про «Секрет», я думаю, если куда и ушло дальше прокуратуры, то только, – я показал пальцем наверх.
– Тому, кого нельзя называть?
– В его ближайшее окружение, службу безопасности. От президента эту информацию пока могли скрыть. Она осела и не пошла дальше графа Шувалова. Вот теперь он и боится, и торопится, что его опередят и ничего он, старый пердун, тогда не получит.
– Видишь, ты сам ответил на свой вопрос. Про «Секрет» знает из них только граф. А остальные?
– Думаю, просто ярые коллекционеры. Больные в сущности люди. Озабоченные. Одержимые. И богатые как царь Крез. Но знаешь, что мне успел узнать Руслан про этого Вальда? Что во времена его молодости они все, поколение наших дедов, если не дружили, то наверняка были знакомы. Вальд. Нагайский. Отец Шувалова. Светлейший князь Романов, отец нынешнего князя Андрея. Женькина бабушка, та, что из Глебовых-Стешнёвых по маминой линии.
– Ну вот! А ты говоришь розовый бриллиант тут ни при чём.
– Отец мой тут ни при чём!
– Ну как ни при чём! Смотри. Марго он знал? А она дочь Нагайского. Коллекцию спёр? А она принадлежала Вальду. Шувалов наверняка был в курсе. Да и отцу твоему кто-то же, как минимум, рассказал, что у этого Вальда можно взять и как его обнести. Папаша твой оказался ловок и хитёр, гад, вовремя сбежал. Они наверняка думали, и коллекцию с собой увёз, и спрятал где-то там, – неопределённо махнул рукой Патефон. – А он вон как, умно – в музей. Потому за ним охотились, а про тебя и знать не знали.
– И до сих пор бы не знали. Не сглупи я сам, как последний идиот. Продал скрипку из той украденной коллекции и засветился.
– Не ты один сглупил. Он сам чуть не попался, когда вернулся двадцать лет спустя.
– Ещё и мать Антона подставил.
– Ну вот, видишь, всё и сложилось, – закряхтел Патефон, потягиваясь. – Но Вальд концы искать не стал, когда скрипочку ему вернули, ему, видать, было уже похер. А Шувалов… – он замер. – Слушай, а, может, всё элементарно? Бабки ему нужны и всё? Может, у него дела хуже некуда, обанкротился дядька, поизносился? Оно дороговато, знаешь, замки, виллы да часовые заводы содержать. Вальд умер, ему уже ничего не надо, а этот, сука, поди знал, какие там сокровища, какие деньжищи на кону. И понятия он не имеет про седьмой этот лот и сколько их всего, знает про четыре картины – этого и хватит.
Или знает, невольно задумался я. Как раз очень хорошо знает, что было украдено. И не он ли за мим папашей охотился по горячим следам? Не из-за него ли тот и самоубийство инсценировал, и имя поменял, и жил сорок лет хер знает где по заграницам. Может, он не только Вальда обнёс, но и Шувалова кинул? А, может, прав Колян – ему тупо нужны бабки. Или всё совсем-совсем не так, как нам видится с этих скрипучих коек.
Я пожал плечами и сочувственно скривился, глядя, как Колян корчится. Больше всего его донимала трубка, через которую мочеприёмник до сих пор заполнялся кровью. Я невольно морщился, глядя на его мучения.
– А тебя чего избили? Доказывал свою блатную иерархию?
– Если бы, – хмыкнул он. – Тут с этим туго, Серый, с иерархией. Этим и плоха новая тюрьма. Никакой коммуникации. Это в старых она налажена. А что первым делом должен сделать зэк, оказавшись на зоне? Правильно. Настрочить маляву старшему, передать, покланяться бате и поступить в чьё-то распоряжение А здесь и связь глушат. И окна, видишь, как открываются, – показал он на окно, откидная пластиковая створка которого упиралась в металлический треугольник. Так было в каждой камере. – Ни нос, ни руку не высунешь. Нитку не натянешь. Парашют во двор не сбросишь. До стены хлебным мякишем не доплюнешь.
– И батареи в коробах, – выкрутил я шею.
– Да никого не выстучишь, как положено.
– Но ты то у нас сиделец бывалый. Уважаемый человек. Сколько ты в своё время на нарах, лет пять в общей сложности оттрубил?
Он кивнул.
– Меня потому и били надзиратели, что судимый. На прогулке доебались при всех. Хотели, чтобы заорал, попросил помощи. Свои бы меня отбили, не могли не отбить. Порядок такой. А это бунт. Его бы жёстко подавили. И начальник получил бы повышение. Это мне ещё до того пояснили.
– Засиделся, значит, начальник новой тюрьмы. Повышения захотелось? Но ты силён, брат. Вытерпел.
– Ещё и с профитом. Видишь. Я же знал, что будут бить, и когда. Потому с тестем твоим бывшим заранее дотарахтелся. Его по-любому должны были к тебе подсадить, или тебя к нему, такой шанс они бы не упустили. Я боялся только затянут, выпишут меня. Или тебя в другой блок положат. Но нет, срослось в ёлочку, – довольно улыбнулся он, но не мне.
За сетчатым армированным стеклом в своём кабинете, что просматривался сквозь раздвинутые белые занавески и такое же стекло нашей палаты, суетилась врач. Обычная женщина лет сорока. С тёплыми сильными руками. С выражением спокойной сосредоточенности на строгом, но приятном и каком-то словно одухотворённом лице, какое бывает только у людей любящих свою работу, она что-то записывала в журнал. Вставала, открывала то один шкаф, то другой, и снова возвращалась к столу.
– Тут ещё знаешь какой важный момент, – отвлёк меня от разглядывания доктора Патефон. – Начальство популярных заключённых не любит. А ты человек известный. К тебе тропа не зарастёт. И адвокаты, и журналисты все бдят, следят. И жалобы, чуть что не так, начнёшь писать. Их проверками задолбают, да ещё под пристальным внима6ием прессы, а то и вышестоящих инстанций. Начальству это не нравится. Они ссут. Это же любые нарушения могут быть вскрыты, а по нынешним временам за это могут и посадить. С другой стороны, сидельцам такое наоборот на руку. Это значит надзиралы присмиреют, произвол побояться чинить. Иначе головы полетят. А значит, будет больше порядка. В супе – мясо. В каше – масло. Так что люди в светлых хатах тебе рады.
– А ты сделал, что я велел? – понизил я голос.
Ещё один плюс был у больничного блока, что я оценил не сразу, а Патефон смекнул – отсутствие видеонаблюдения. Потому и стена хоть армированная, но стеклянная же – чтобы палаты просматривались. В обычных камерах теперь за арестантами ещё и следили, денно и нощно пялились на них в мониторы.
И я вдруг понял, что не так было с Евангелиной. С чего она вдруг стала фальшиво изображать дешёвую проститутку, хотя всегда отличалась актёрским талантом и хитростью: она же приходила ко мне в обычную камеру, где как раз это видеонаблюдение и велось. За ней наверняка следили. Она ни проболтаться не могла, ни знак мне подать, только так, чтобы даже смех её показался мне подозрительным, ненастоящим, натужным. Она знала, что я эту фальшь пойму.
Чёрт! Но что именно не так?
– План изучил? Подготовился? – спросил я Патефона всё так же тихо.
– Думаешь, придётся бежать? – наблюдая за докторшей, ответил мне Патефон.
– Да хер знает. Будем рассматривать все варианты. Я уже ни в чём не уверен.
– Она хорошенькая, правда? – кивнул Колян, облизал губы и принялся грызть нижнюю.
– Думаешь через медсанчасть бежать? – догадался я о его внезапной «симпатии» к докторше.
Он усмехнулся.
– Мы же не в кино. Это там только подкопы делают, тоннели многометровые роют, да планы тюрьмы на груди накалывают. Но есть у меня одна думка…
Я не стал его отвлекать и расспрашивать. Тем более доктор пошла на обход.
А ещё принесла мне письмо.
И я, прочитав короткую записку от адвоката, не почувствовал ни как щиплет антисептик, ни как саднит задницу от лекарства.
Деньги собрали. И даже передали Барановскому.
Я блаженно вытянулся на кровати. Да! Поскорей бы уже выбраться отсюда.
Обнять мою девочку…
А потом и Патефона вызволить. И Катькиного отца – не гнить же ему пожизненно на зоне.
Но мысли снова упрямо свернули к Еве, наполнив душу тревогой.
Женька слушать про мою очередную бабу не стала. Я её не виню: ей и так сейчас нелегко. Я не стал настаивать – не хотел портить и без того короткую встречу. Но я очень надеялся, что она прочтёт моё письмо до того, как Евангелине приспичит познакомиться с ней поближе.
А в том, что ей приспичит, я даже не сомневался.