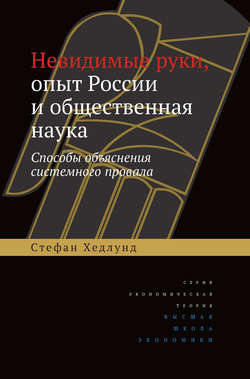Читать книгу Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объяснения системного провала - Стефан Хедлунд - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Предмет и традиция общественной науки
Неоклассическая революция
От Смита к Маршаллу
ОглавлениеАдам Смит по сей день остается неким идолом экономической традиции, и на то есть существенные причины. Его вера в преимущества, которые несут с собой специализация и разделение труда, по-прежнему составляет не только основу экономической теории вообще, но и основу более ориентированных на экономическую политику доводов в пользу свободной торговли. Его знаменитый рассказ о работе булавочной фабрики, который занимает большую часть первой главы «Богатства народов», также не теряет своей популярности. Если 10 специализированных рабочих производят 48 000 булавок в день, производительность одного рабочего составляет 4800 булавок в день. Если бы каждый рабочий занимался производственным процессом от начала до конца, он бы не произвел и 20 булавок в день, а может быть, и вовсе ни одной[146].
Нетрудно понять, почему Смит был так очарован этим примером, почему булавочная фабрика до сих привычно поминается в учебниках по экономической теории. Доводы Смита как таковые сильны и логичны. Проблему представляет не вера в потенциальную выгоду, которую несут специализация и разделение труда, но, скорее, связанная с ними вера в мистические силы не менее знаменитой «невидимой руки». До какой степени мы можем полагаться на инструментальную рациональность экономических акторов, то есть на то, что они станут исследовать все существующие возможности для получения выгоды в будущем? Можем ли быть уверены, что они будут стремиться к краткосрочной прибыли и максимизации полезности, соблюдая то, что мы называем «золотым правилом», то есть не стремясь к личной выгоде за счет других?
В то время как большинство современных экономистов согласятся, что на эти вопросы можно дать ответ в лучшем случае условно положительный, они также скажут, что это не особенно важно. Достаточно того, что большинство акторов чаще будут действовать правильным образом. Возможные проблемы будут всего лишь отклонением от нормы, и с ними можно справиться в рамках стандартной парадигмы. Модели, конечно, не могут быть полной (и при этом полезной) картиной реальности. Мы еще обсудим это в главе VII.
Однако, с точки зрения социологов, как современных, так и классических, именно такого типа вопросы предположительно иллюстрируют, почему современная экономическая наука почти полностью утратила актуальность для реальной жизни. Экономических акторов нельзя рассматривать или моделировать в изоляции. Тот выбор, который делает homo sociologicus, осуществляется не на основе клинически чистого расчета относительных издержек и выгод. Скорее, можно сказать, что он вырастает из шумного, тесного мира социальных отношений, где есть нормы, традиции, привычки, обиды, обязательства и просто иррациональное поведение. Как мы вскоре увидим, экономисты отмахнулись от таких возражений.
Отправной точкой «маржиналистской революции» была предпосылка о том, что все экономические акторы максимизируют полезность всюду, где могут. Говоря более конкретно, это означает, что потребители будут расширять потребление, пока (убывающая) полезность, получаемая от, например, последней чашки кофе, не сравняется с выплачиваемой ценой, а производители будут расширять производство, пока (возрастающие) издержки производства последней единицы товара не будут полностью покрываться получаемой ценой. Вследствие этого центральными понятиями новой теории стали термины «предельная полезность» и «предельные издержки». В более обобщенном виде эту революцию в экономическом мышлении можно рассматривать как первый шаг в сторону теории общего равновесия, которая долго составляла суть современной экономической науки[147].
Одним из выдающихся отцов-основателей этого нового начинания был французский экономист Леон Вальрас. Его имя прежде всего ассоциируется с понятием tatonnement и с воображаемым аукционистом, который выкрикивает меняющиеся цены, пока рынки повсеместно не придут в состояние, когда спрос равен предложению[148]. Вальрас, впрочем, был не единственным отцом «маржиналистской революции». Совершенно независимо от него и друг от друга эту же теорию развивали Стенли Джевонс в Англии и Карл Менгер в Австрии[149].
Хотя эти ранние авторы сыграли в развитии науки важную роль, именно английский экономист Альфред Маршалл вписал свое имя в историю экономической мысли как человек, который превратил политическую экономию в экономическую теорию. Его книга «Принципы экономической науки» не только ввела в обиход само понятие «экономическая наука». Она также может рассматриваться как истинная отправная точка развития неоклассической традиции, которая в последние десятилетия царит в экономической науке безраздельно[150].
Именно тогда экономисты-теоретики начали закладывать основание современной экономической теории с ее мощным акцентом на общую теорию и на формализованное математическое моделирование. Большинство современных экономистов, если не все, сказали бы, что это был процесс здоровый и полезный, однако он также сигнализировал о возникновении сложных отношений между экономической наукой и более престижными точными науками, а именно физикой и математикой.
Эти отношения надо рассматривать в контексте научной революции, о которой мы уже говорили. В Древнем мире не делалось различий между точными науками, такими как математика, и науками, изучающими политику и экономику или даже поэзию. Аристотель мог применить к любой из них одну и ту же философскую методологию. Даже во времена Томаса Гоббса еще существовала вера в единство описательной науки, что позволило ему утверждать, что Левиафан представляет собой научное описание политического сообщества[151].
Ньютонианская механика изменила это положение дел. За возрастанием веры в то, что законы движения могут адекватно объяснить Вселенную, последовал, как мы уже отмечали, рост веры в то, что аналогичным образом можно объяснить и явления экономико-политической сферы. А поскольку природную сферу можно было объяснить законами, выраженными в математической форме, гуманитарные науки ощутили необходимость разработать собственные законы. Так началась долгая и до сих пор с неясным исходом битва общественных наук за право мутировать из гуманитарных наук в точные.
В качестве примера связанных с этим проблем можно отметить, что подход многих экономистов к внедрению «системных изменений» в экономику стран бывшего СССР был в большой степени обусловлен существованием четко очерченного набора универсально применимых «экономических законов». Результат, как мы помним, оказался отнюдь не триумфальным. В ходе последовавших за этим провалом дебатов, нередко весьма язвительных, некоторые авторы назвали причиной неудачи извращенную веру в то, что экономическая теория – точная наука, которую можно рассматривать и применять в изоляции от общественно-культурной реальности.
Мы не станем возвращаться к этим дебатам, но сопоставим веру в экономические законы, так прочно укоренившуюся в начале посткоммунистических 1990-х годов, с той атмосферой сомнений и разочарования, которая распространялась среди экономистов в начале XX в. Эту атмосферу так описывал Генри Мур в 1914 г.: «В последнюю четверть прошлого века экономисты питали большие надежды относительно способности экономической теории стать “точной наукой”. Передовые теоретики считали, что развитие доктрин полезности и ценности заложило базу экономической науки, основанной на точных понятиях, и на этой основе вскоре можно будет построить крепкую структуру из взаимосвязанных частей, которая своей определенностью и неопровержимостью напоминала бы строгую красоту физико-математических дисциплин. Но эти надежды не сбылись»[152]. Утверждая, что «где-то должна была быть серьезная ошибка», Мур предполагает, что «объяснение можно найти в предубежденной точке зрения, согласно которой экономисты рассматривали возможности науки, а также в радикально неверных методах, которыми они пользовались». Предубеждение и ошибочный метод заключались в необоснованной вере в то, что экономическую теорию можно развивать так же, как математические науки: «Экономическая теория должна была стать “исчислением удовольствий и страданий”, “механикой полезности”, “общественной механикой”, “physique sociale”»[153]. Для неоклассической экономической теории и ее приверженцев это был нелегкий период.
146
См.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. С. 70–73.
147
Классическая формулировка модели общего равновесия принадлежит нобелевским лауреатам Кеннету Эрроу и Жерару Дебрё. См.: Arrow К., Debreu G. The Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy// Econometrica. 1954. Vol. 22. No. 3. P. 265–290. См. также: Debreu G. Theory of Value. New York: Wiley, 1956.
148
Walras L. Elements deconomie politique pure ou Theorie de la richesse sociale. Lausanne: Imprimerie L. Corbaz, 1874. (Рус. пер.: Вальрас 77. Элементы чистой политической экономии, или Теория общественного богатства. М.: Изограф, 2000.) Стоит отметить, что появление и распространение теории игр привело к существенному падению интереса к общему равновесию.
149
Их основные работы: Jevons W.S. Theory of Political Economy. London: Macmillan, 1871; Menger C. Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Wien: W. Braumüller, 1871. Очертания центральной теории предельной полезности можно было различить уже в ранней работе Джевонса «General Mathematical Theory of Political Economy» («Общая математическая теория политической экономии»), опубликованной в 1862 г. (Изначально эта работа вышла в форме короткой и малоизвестной лекции, но четырьмя годами позже была издана отдельным трудом: Jevons W.S. Brief Account of a General Mathematical Theory of Political Economy // Journal of the Royal Statistical Society. 1866. Vol. 29. June. P. 282–287.) Менгер отличался от двух других основателей теории не только тем, что основал собственную «школу», которая затем развилась в знаменитую австрийскую школу. Он также был гораздо менее склонен представлять свои идеи в виде математических формул. Некоторые исследователи сочли это основанием для того, чтобы поместить его в отдельную категорию.
150
Marshall A. Principles of Economics. London: Macmillan, 1890. (Рус. пер.: Маршалл А. Основы экономической науки. М.: Эксмо, 2008.) Для полноты картины можно добавить, что со временем был найден консенсус относительно того, кто первым сформулировал теорию предельного анализа и кто по праву должен считаться ее основателем. Это немецкий экономист Генрих Госсен (см.: Gossen Н.Н. Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fliessenden Regeln für menschliches Handeln. Braunschweig: Vieweg, 1854).
151
Предположительное мнение Гоббса здесь процитировано из статьи «Social sciences» в онлайн-энциклопедии Wikipedia (URL: http://en. wikipedia.org/ wiki/Social_sciences).
152
Moore H.L. Economic Cycles: Their Law and Cause. New York: Macmillan, 1914. P. 84–85. (Курсив мой. – S. H.)
153
Ibid. P. 85.