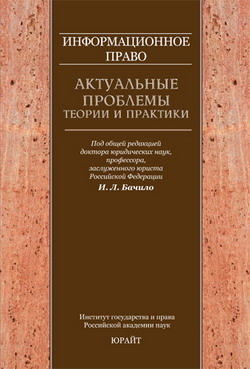Читать книгу Информационное право: актуальные проблемы теории и практики - Коллектив авторов - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. ПРОБЛЕМЫ СВЯЗИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Глава 1. ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА [8]
1.2. Как понимается и воспринимается категория «гражданское общество»
ОглавлениеПроблема первая: есть ли и в каком состоянии пребывает в России гражданское общество? С какого времени возможно говорить о гражданском обществе в России?
Стимулом для постановки этих вопросов рядом исследователей явились существенные изменения [9], внесенные в первой половине 2006 г. в Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [10], вызвавшие бурные дискуссии в обществе и прессе.
Диана Шмидт, представляющая Исследовательский центр по изучению Восточной Европы (Германия), рассматривает эти вопросы с точки зрения связи гражданского общества (далее в данной главе – ГО) и демократии. Она считает, что «состояние российского гражданского общества представляет собой интерес для тех американцев и европейцев, которые оказывают помощь становлению демократии в постсоветской России, в частности, через программы развития ГО и привлечения неправительственных организаций в качестве посредников к участию в программах, посвященных конкретным проблемам» (курсив наш. – И. Б.). В центре внимания исследования ДОНОРЫ, неправительственные организации и демократия, притом что «мы не в полной мере представляем себе, что такое российское гражданское общество» [11]. Этот автор не пытается определить, какой тип ГО существует в России, но дает широкий обзор подходов к проблеме, накопленных сведений, а также анализ академических работ западных и российских авторов при выявлении различий между ними. При этом наибольшее внимание уделено институционализации органов ГО. Первая исходная позиция при определении признаков его состоит в том, что ГО создается определенными усилиями с конца 1980-х годов. Внутри России «гражданская деятельность», по ее мнению, активизировалась с 1990-х годов, и тревожная ситуация с ГО в России сохраняется [12].
Эти вопросы рассмотрены Д. Шмидт через призму четырех концептуальных подходов научной мысли о развитии гражданского общества. К сожалению, они основаны на разных критериях, которые включают:
1) гражданское общество в контексте посткоммунистических преобразований;
2) гражданское общество как «третий сектор», выходящий за рамки государственного и рыночного секторов;
3) транснационализацию гражданского общества;
4) девиантные формы негражданского (uncivil) общества. Сочетание временных и функциональных факторов, определяющих эти направления исследований гражданских институтов российского общества, позволяет наиболее рельефно оценить как институциональный, так и деятельностный подходы к проблеме.
Следуя периодизации, предложенной этим автором, констатируем ее выводы.
1. 80-90-е годы, по ее оценке, с учетом общепринятого на Западе стереотипа связи государства и ГО интерпретированы как путь от «пика» идеи ГО, от его институционального расцвета до его затухания и даже до отхода употребления термина «гражданское общество». Основной тезис по этому поводу таков: «центральная власть – сила, которая разрушает автономные политические пространства» О количественном росте организаций в этот период см.: Петров, Н. Общественная палата для власти или для общества? // Pro et Contra. – 2006. – № 1. (курсив наш. – И. Б.).
Полезный методологический вывод, сделанный Д. Шмидт, в связи с итогом первого этапа развития гражданского общества касается того, что необходимы всесторонние дальнейшие исследования проблем организаций гражданского общества и принципов их работы в существующем контексте. Это необходимо, чтобы результаты были сопоставимы друг с другом. И еще: «Хотя наблюдаемые в настоящее время примеры трудно подвести под традиционную концепцию гражданского общества, их легче трактовать в понятиях социального капитала, гражданских ассоциаций и общественных движений» [13].
2. При рассмотрении гражданского общества в роли «третьего сектора» (пока не ясно, третий сектор чего: экономики, общества в целом?) некоторые авторы наделяют его функцией совмещения рыночно ориентированной и благотворительной деятельности. Предполагается, что его организации имеют формальную структуру и независимое управление, обеспечивают работой значительную часть населения, носят некоммерческий характер и платят налоги. Д. Шмидт считает, что в России «взаимоотношения бизнеса и ГО» остаются практически неисследованными. Заметим, что такие исследования есть [14].
В названной статье журнала «Pro et Contra» в этом контексте рассматриваются две проблемы. Первая касается вопроса усиления авторитаризма государственной власти и «самопровозглашенного» отделения ГО от государства и механизма сотрудничества между гражданским обществом и государством. Этот тезис снова возвращает к вопросу о целях как государственной системы власти, так и иных структур гражданского общества, к вопросу о поиске возможных путей их взаимодействия и баланса. Заметим, что при этом главным индикатором с точки зрения устремления к демократии рассматривается именно тема баланса сил между как бы конкурирующими сторонами, группами. Автора больше беспокоит именно баланс сил, а не «уровень экономического развития общества». Уходят в сторону и сюжеты демократии.
Тема отношений между бизнесом и гражданским обществом в литературе также почти не рассматривается. Это наблюдение верно. Такая ситуация предопределена стереотипом понимания гражданского общества, которое некоторыми теоретиками и идеологами искусственно отделено и от государства, и от бизнеса. Наибольшего внимания в этом аспекте заслуживает тема связи бизнеса и гражданского общества через институт благотворительности (более подробно эта тема раскрывается в соответствующем разделе настоящей монографии).
Справедливо подчеркивая значение ясности в соотношении трех секторов: государства, бизнеса и гражданского общества (при той концепции, которая принята сейчас ООН, ЕС, ЮНЕСКО), Д. Шмидт со ссылкой на работу Н. Петрова подчеркивает дефицит в исследовании «межсекторных отношений». Н. Петров считает, что модель: государство – бизнес – гражданское общество не работает там, где бизнес и государство – одно целое [15].
3. При утверждении, что в России организации гражданского общества представляют собой «совершенно новые образования», ибо сложились по модели «сверху» и под влиянием «внешних факторов» содействия демократизации и продвижения принципов гражданского общества со стороны Запада, финансовой помощи из-за рубежа, Д. Шмидт исследует тему транснационализации гражданского общества. Абсолютно прозрачна, по исследованиям специалистов Запада, которых она обильно цитирует, роль донорства в формировании неправительственных организаций в качестве основы гражданского общества. Специально подчеркивается значение транснациональных сетей в развитии гражданского общества в странах, «находящихся в процессе трансформации». В западных исследованиях России в этой связи большое внимание уделяется финансированию развития так называемого «местного» гражданского общества из-за рубежа [16]. Так, Сара Хендерсон указывает на непредвиденные последствия иностранной помощи и говорит о «гражданском развитии, управляемом посредством ассигнования средств», о возведенном в принцип клиентизме и гражданском обществе под опекой. Вопрос о ресурсах, идеях, руководстве доноров рассматривается в ее работе специально [17].
По названным и иным публикациям журнала «Pro et Contra» в табличной форме можно представить стратегии финансирования донорами организаций ГО в России.
Таблица 1
Финансирование неправительственных организаций ГО в России [18]
Обзор статей только по одному журналу и только под одним углом зрения дает основания для выводов по весьма веским вопросам. Можно ли рассматривать ГО как маргинальное явление относительно иных категорий социума? Остается ли ГО в роли подмастерья для основного института организации социума – государства? Может ли ГО ставить себя в позу заменителя государства? Согласимся с главным редактором журнала «Рго et Contra» Марией Липман. Несмотря на жесткую оценку закона относительно независимых некоммерческих организаций и идентификацию их с «гражданами» в целом (которые как бы отступают перед государством), она признает все же, что весь комплекс публикаций № 1 за 2006 г. скорее ставит эти вопросы, чем отвечает на них [19].
9
См.: Федеральный закон от 10.01.2006 № 18-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 282.
10
СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145; 1998. № 48. Ст. 5849; 1999. № 28. Ст. 3473; 2002. № 12. Ст. 1093; 2003. № 52 (ч. 1). Ст. 5031; 2006. № 3. Ст. 282; № 6. Ст. 636; № 45. Ст. 4627; 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 37; Ст. 39; № 10. Ст. 1151; № 22. Ст. 2563; № 27. Ст. 3213; № 49. Ст. 6039; Ст. 6061.
11
Шмидт, Д. Какое гражданское общество существует в России? // Pro et Contra. 2006. – № 1. – С. 6–7.
12
Там же. – С. 8.
13
Шмидт, Д. Указ соч. – С. 11, 21.
14
См., например: Мусин, М. Семинар № 1. Карелия, Северный Кавказ // Русский журнал. – 2006. – № 1.
15
Шмидт, Д. Указ. соч. – С. 13, 22 (примеч. 46).
16
Там же. – С. 12–13.
17
Henderson,s. L. Building Democracy in Contemporary Russia. Cornell University Press. – 2003. – P. 155–166. По исследованиям Л. Пауэла, «местные сотрудники неправительственных организаций усваивают заграничные идеи и говорят в точности, что хотят от них услышать иностранные доноры, из боязни лишиться работы или источника заработка». Цит. по работе: Шмидт, Д. Указ соч. – С. 15, 23 (примеч. 57).
18
Данная таблица составлена на основе используемых авторами статей журнала «Рго et Contra», включая работы Е. Белокуровой, А. Хлопина, Н. Петрова, Е. Hinterhuber, S. Rindt, M. Keck, M. Lenard, J. Hemment, L. Polwel, С. Бондаренко, материалы кембриджских исследований международных отношений и др.
19
Гражданское общество и государство // Рго et Contra. Московский центр Карнеги. – 2006. – № 1. – С. 2.