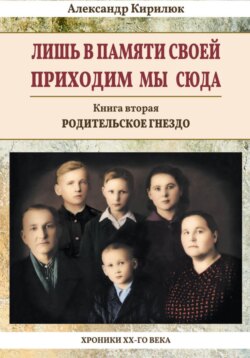Читать книгу Лишь в памяти своей приходим мы сюда. Хроники ХХ-го века. Книга вторая. Родительское гнездо - - Страница 14
Глава III
Щучинск
1952–1960
2
ОглавлениеОтец довольно быстро получил участок земли под строительство дома по улице Каменно-Карьерской, которая шла параллельно улице Луговой, где находился дом Кандиных. Кстати, данный участок также был в начале улицы, как и дом Кандиных, поэтому до будущего своего дома я добегал за 5 минут. Улица Каменно-Карьерская, как и улица Луговая, располагалась в районе, который назывался пристанционным – недалеко были железнодорожная станция и железнодорожные предприятия. Меня всегда удивляло название моей улицы, так как ближайший каменный карьер «Омскстроя» находился примерно в двух километрах от ее начала.
В то время отделение железной дороги находилось не в областном центре, Кокчетаве, а в городе Щучинске и называлось Курорт-Боровским отделением Карагандинской железной дороги. Пристанционный район довольно быстро развивался, так как на предприятиях отделения железной дороги (паровозоремонтном депо, вагоноремонтном депо и т. п.) работала основная масса промышленных рабочих города – около пяти тысяч человек.
Мимо выделенного нам участка проходила основная дорога, связывающая город Щучинск и села, расположенные в юго-западной части Щучинского района (Златополье, Озерное, Вороновка, Брусиловка, Пашенка, Ключи, Савинка, Многосопочное, Обалы, Ново-Андреевка, Тюлькули, Щедринка, Веденовка). Напротив нашего участка были склады заготконторы райпотребсоюза и нефтебаза Боровской МТС. То есть строили мы дом не на самом отшибе (хотя в то время это была окраина города). Рядом с нами всегда кипела жизнь. Хотя дорога была грунтовая, так называемый «большак», но вдоль нее было расположено около половины колхозов района, и поэтому с раннего утра до позднего вечера мимо нашего дома постоянно двигался какой-то транспорт. Он был в основном гужевой, так как автомашин в то время было еще очень мало.
Как только был оформлен земельный участок, родители сразу начали строить дом. Помню, как отец копал траншею под фундамент. Траншею он выкопал за один день. Она была неглубокая – в пределах 40–50 см. Фундамент выкладывали пластинчатым гранитным камнем – «плетняком». Цемента, да и извести, в то время достать было практически невозможно, как из-за дефицита, так и из-за нехватки денег, поэтому основным связующим материалом была глина, которую брали тут же, в выкопанной на участке яме.
Стеновым материалом был саман – крупный сырцовый кирпич, состоящий из смешанной с соломой глины. Первоначальную партию самана мы купили у высланных с Кавказа ингушей. Делали они его по берегам протекающего с горы ручья. Сегодня рядом с эти местом находится территория старого (закрытого) городского кладбища, которого во время переселения ингушей еще не было. Появилось оно сразу после войны. В дальнейшем саман, да и мелкий кирпич-сырец из глины и песка для печи, мы делали сами у себя на участке. Как только стены были поставлены, отец уехал на две недели в ближайшее лесничество на заготовку леса для дома – бревен на матки и жердей на перекрытие потолка.
Дом строили все – и родители, и дети, кроме младшего Алеши, которому в то время было около полутора лет. Мне тогда было шесть, но я тоже вносил свою лепту в общее дело – подносил саман, а точнее, по половине самана, чистил специальным чистиком от кожуры жерди на потолок, даже пытался помогать матери и сестре мазать стены.
Иногда летом в воскресенье отец всем детям устраивал выходной, и тогда мы со старшим братом Толей и соседскими ребятами разных возрастов ходили на озеро Щучье купаться. Идти надо было более шести километров и, кроме того, дорога была небезопасная. На этом пути нас могли ждать неприятности. Чтобы попасть на озеро, надо было преодолеть несколько преград.
Первая преграда нас ждала сразу же после прохода мимо кладбища. Дорога от кладбища до каменоломен контролировалась «щучинской мордвой». И если нас было больше, чем их, то проход осуществлялся спокойно. «Щучинская мордва» не решалась на открытое столкновение. Если же их было больше, чем нас, то наша задача состояла в том, чтобы избежать столкновения. Для этого надо было как можно быстрее добежать до каменоломен. Затем преодолеть второе препятствие, чтобы выйти уже на перевал. Чтобы миновать каменоломни, нам волейневолей нужно было идти мимо лагеря заключенных, которые работали на каменоломнях. Лагерь был строгого режима – там находились заключенные, имеющие сроки судимости от десяти лет. Говорили, что в этом лагере сидели люди, осужденные по политическим статьям, – враги и предатели родины. Охрана лагеря в целом к нам, мальчишкам, была настроена благожелательно, но иногда в ее составе находились идиоты, которые, ради того, чтобы нас попугать, открывали стрельбу над нашими головами и хохотали, когда мы падали на землю, но такие эксцессы были очень редкими. Сразу после смерти Сталина, кажется, в 1954 году этот лагерь был закрыт. Перевал между двумя горами, которые были очень похожими друг с другом и назывались «Две сестры», всегда проходился свободно, и, спустившись вниз, мы оказывались у озера Щучье.
На берегу озера находились две насосные станции. Первая снабжала водой центральную часть города, а вторая – пристанционную. Как правило, мы располагались у второй, станционной, насосной станции – там дежурными машинистами работали мужики с соседних улиц. Поэтому мы в какой-то степени были застрахованы от внезапного набега «щучинской мордвы». Позднее там стал работать сосед, дядя Коля Кириенко. Наши дома на улице стояли напротив друг друга, и я «корешковал» с его старшим сыном Витькой, который был на год моложе меня. На дежурство он ездил на мотоцикле, кажется, это был ИЖ-49 с коляской, и иногда брал нас с собой на целый день.
Озеро Щучье отличалось кристально прозрачной водой. Дно просматривалось до десяти метров в глубину. Усевшись рядом с насосной станцией на край каменной (из крупных валунов) насыпи, я с замиранием сердца наблюдал, как практически подо мной в воде, а глубина была около четырех-пяти метров, ходили стайки рыб – окуней, чебаков. Видны были не только очертания рыб, но даже и их раскраска. А под вечер к насосной станции подходили на охоту крупные щуки и, дожидаясь добычи, стояли подолгу между валунов, как бы сливаясь с ними, не шелохнувшись, поэтому рыбу неопытным глазом невозможно было разглядеть.
Здесь меня, шестилетнего, научили плавать. Учеба была очень короткой. Старшие пацаны, в том числе и мой старший брат Толя, меня просто бросили в воду на глубину и наблюдали, как я барахтаюсь. Нахлебавшись достаточно воды, я поплыл с первого раза. Кстати, много позднее я таким образом обучал плаванию свою малолетнюю дочь.
Обратно с озера домой, как правило, мы возвращались уже поздно, в сумерках. Поэтому наша третья задача заключалась в том, чтобы проскочить без приключений кладбище, иначе нас могли «мертвецы затащить к себе в могилу». Мы тогда до предела были напичканы всевозможными суевериями.
К осени уже стояли наружные стены нашего дома, была сделана кровля – перекрыт жердями, обмазан с обеих сторон глиной и засыпан землей потолок. Была сложена посредине дома большая русская печь с полатями (как отец говорил, с лежанкой). Были установлены окна – пока в одно стекло. Зимой стекла промерзали и на их внутренней стороне толстой шапкой держался иней. Так что мне, чтобы увидеть что-нибудь на улице, необходимо было дыханием продувать глазок на стекле.
Когда мы вошли в дом жить, а это было где-то в сентябре, пола и перегородок еще не было. Просто не хватило денег на строительные материалы. Но это уже был свой дом, и наше существование теперь не зависело от настроения квартирных хозяев.
К дому было пристроено небольшое узкое помещение (своего рода сени). В первый год в нем размещалась корова. Дверей из сеней в основную часть дома не было (был просто проем в стене) и от коровы нас отделял полог. Потом отец перегородил это помещение – одна часть исполняла функции сеней, а вторая была кладовкой.