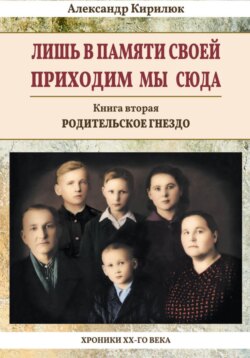Читать книгу Лишь в памяти своей приходим мы сюда. Хроники ХХ-го века. Книга вторая. Родительское гнездо - - Страница 17
Глава III
Щучинск
1952–1960
5
Школа № 15 (30)
ОглавлениеПервого сентября 1953 года я пошел в первый класс той же школы, в которой учились мои старшие сестра и брат. Первой моей учительницей, которая проучила меня четыре года, была Клавдия Лукинична Шевченко. Возрастом она была, как и моя мать, где-то сорока-пятидесяти лет, высокого роста, в меру строгая и очень добрая. Муж у нее погиб на фронте. Впоследствии она вторично вышла замуж и стала носить фамилию Баркова.
Первый послевоенный 1946 год был рекордным по рождаемости. Поэтому наш первый класс был переполненным – более сорока детей. За некоторыми партами нас сидело по трое. Дней через пятнадцать нас, нескольких ребятишек из класса, привели к директору и объявили, что в связи с переполненностью класса переводят в ближайшие к дому начальные (четыре класса) школы. Меня определили в начальную школу в районе будущего элеватора. Среди детворы нашей округи она популярностью не пользовалась, и имела презрительной название – «Лягушка». Школа была одноэтажная, деревянная, и в ней было только четыре комнаты. Находилась она неподалеку от «третьего» магазина ОРСа. «Лягушкой» ее прозвали за то, что она находилась на болотистой местности и ее летом постоянно окружали большие лужи воды и затвердевшей смолы. Рядом в небольшие ямы прямо из вагонов-цистерн сливали битум, который потом шел на изготовление асфальта и битумной мастики для устройства кровли домов из рубероида и толи.
Эти школа и новая учительница мне очень не понравились, о чем я после первого дня учебы сказал отцу и матери. На следующий день мать пошла к директору той школы, куда я поступил первоначально. Какой у них с директором состоялся разговор, я не знаю, но меня вернули в мой большой класс. Проучился я в школе № 15 пять лет. Учился хорошо. Моя фотография, как отличника учебы, была даже помещена на доске почета школы.
В нашем классе были дети родителей с разным достатком. Дети начальствующего состава отделения дороги сразу выделялись добротной шерстяной школьной форменной одеждой. Остальные в основном были одеты небогато. Как правило, это была, в лучшем случае, хлопчатобумажная форменная одежда, а в основном – сатиновые штаны, вельветовые или байковые курточки, но чистенькие, с подшитым свежим белым воротничком – в школе был культ чистоты. Мать мне для школы сшила две смены одежды – хлопчатобумажные шаровары на резинках и сатиновые рубашки в клеточку. Были и дети, которые ходили в школу в латаной одежде. Со мной в классе учились три ингушских мальчика – братья Аламбек и Руслан Цуровы и Муса Хамхоев. Братья Цуровы одеты были небогато, но относительно добротно. Муса же ходил в школу в тряпочных тапочках с холщовой сумкой. Он очень стеснялся своей нищеты, старался сидеть на задней парте, на переменах стоял тихо в сторонке от нас, потому что мы что-нибудь перекусывали, взятое из дома, а у него ничего такого с собой не было. В конце октября, когда по утрам установились устойчивые заморозки, он перестал ходить в школу. Мы потом узнали от Клавдии Лукиничны, что у него просто не было обуви. Но, несмотря на такие различия в одежде, отношения между учениками в классе были ровными и дружелюбными, без какой-либо зависти – в этом заслуга нашей первой учительницы.
Кстати сказать, в первый мой школьный год у меня тоже была проблема с обувью. В то время детскую обувь купить свободно в магазине было практически невозможно. Летом вся уличная детвора, как правило, бегала босиком. Все свободное от возлагаемых на нас домашних дел время мы проводили на улице. Ноги наши постоянно были грязные и в цыпках, Цыпками назывались мелкие незаживающие ранки, которые образовывались на верхней части ступней наших ног от постоянного их намокания в грязных лужах, а затем высыхания на солнце. Лечили родители цыпки следующим образом. Сначала ступни ног отпаривали в тазу с горячей водой, затем кровяную коросту отдирали коркой «шапки» (без семечек) подсолнуха и завершала эту экзекуцию густая смазка сметаной. Процедура была страшно болезненная и, чтобы ее избежать, мы старались до темноты не попасть в руки матери, что удавалось очень редко. Иногда мать покупала на рынке у ингушек тряпичные тапочки, которых мне хватало не более как на неделю.
Перед тем как пойти в первый класс, мать привезла мне из Акмолинска, где в то время ее самый младший брат Илья Иванович Треносов работал заместителем председателя облпотребсоюза, очень добротные, на толстой подошве, кожаные ботинки, которые были на два размера велики. Тогда все родители хорошую обувь для детей брали «на вырост». Чтобы они не «хлябали», мать сшила мне двойные носки, но ботинки все равно для моих ног были излишне свободными.
Мать никак не могла купить или достать мне зимней обуви. Уже выпал снег, стояли достаточно крепкие морозы, а она вынуждена была отправлять меня в школу в этих же кожаных ботинках. Чуть позже оказалось, что мне повезло. Я надевал ботинки на очень толстые шерстяные носки, и ноги у меня не мерзли. Только ходить в них по обледеневшей земле было очень скользко. Да и снег вовнутрь ботинок часто попадал, так как пропустить вновь образовавшийся сугроб, чтобы по нему не побегать, я никак не мог. Так я проходил по снегу в ботинках почти полмесяца. Потом мать у нас на рынке купила мне валенки-сырцы (из мягкой, плохо свалянной шерсти), которые без калош носить было нельзя, но все-таки это была уже настоящая зимняя теплая обувь.
Проблема была не только с детской обувью и одеждой. Негде было достать элементарных ученических принадлежностей. Конечно, мы уже жили не в то военное время, когда ученики писали на краях газет и листах из старых книг. Но все равно, в свободной продаже невозможно было достать ни учебников, ни специально разлинованных для каждого предмета и класса тетрадей, ни перьев для ручек, ни чернильниц. Справедливости ради, надо сказать, что в школе на каждую четверть нам все-таки бесплатно выдавали по три тетради – по письму, чистописанию и арифметике.
Как-то мать из поездки в Акмолинск привезла мне тридцать тетрадок (пятнадцать по письму и пятнадцать по арифметике) и большой, с двумя замками, портфель. Казалось бы, мне этого богатства хватит на несколько учебных лет. Но представьте себе маленького первоклассника, который кроме книжек и тетрадок, носил в портфеле еще и стеклянную чернильницу-«непроливашку», которая имела способность не только пролиться, но и разлететься вдребезги от неосторожного «движения» портфеля или холщовой сумки по спине товарища по классу. Поэтому уже через пару недель, как правило, мои тетрадки превращались в страшное для учительницы зрелище, и она мне за их ведение ставила жирные двойки и единицы. Чтобы эта информация не дошла до родителей, я их по дороге из школы прятал в старом деревянном колхозном амбаре, засовывая под венец сруба, а потом дома тайно от старших брал новую тетрадь. Но вскорости следы моих преступлений обнаружил сторож амбара старик Махиня и передал их отцу. Он жил на соседней, Луговой, улице и моего отца знал хорошо. Со мной была проведена соответствующая воспитательная работа, правда, без телесного наказания. Чтобы исключить причину заливки чернилами тетрадей, чернильницу я стал носить снаружи портфеля, в привязанном к нему матерчатом мешочке, который в спешном порядке сшила мне мать.
Новый свой портфель я возненавидел. Мало того, что он был очень большим и страшно неудобным для носки, вдобавок он еще стал причиной получения мной от одноклассников обидной клички «министр-капиталист Керенский». Керенский ведь главный враг Страны Советов. Я не выдержал и решительно заявил родителям, что пусть меня хоть убьют, но я с этим портфелем в школу ходить не буду. Первое время я носил учебники и тетради подмышкой, но через неделю, непонятно каким образом, мать достала мне уже потрепанный, но настоящий фронтовой брезентовый офицерский планшет. Такой планшет носили только несколько человек в школе, и он стал предметом зависти моих одноклассников. От гордости меня просто распирало.
Родственники родителей из других городов передали для меня три букваря, но ни один из них не был даже похожим на букварь, по которому нас учили в школе.
И все-таки я, в начале своего учебного процесса, находился в гораздо лучших условиях, чем мои старшие брат и сестра. Начало их учебы в школе пришлось на первый послевоенный год. Как они мне рассказывали, писать им приходилось химическими карандашами на старых газетах. А учебников было по одному на пять-шесть учеников.
Пенсии отца по инвалидности и его зарплаты кладовщика семье для нормальной жизни все равно не хватало, так как основную долю семейных затрат составляли расходы на строительство дома. Поэтому, чтобы как-то решить наши проблемы, мать решила заниматься «коммерцией», или, в нашем сегодняшнем понимании, мелкой челночной торговлей. Она со своими старшими сестрами, тетей Полей и тетей Наташей, стала ездить поездом Челябинск – Ташкент на юг за сухофруктами, в основном урюком и курагой. Эти сухофрукты они закупали оптом на ташкентских базарах, привозили в мешках и потом в малый развес продавали на нашем рынке. Времени на одну такую поездку – туда и обратно – уходило около недели. Мне тогда было лет семь, и я всегда с нетерпением ждал мать. Во-первых, скучал, а во-вторых, по приезде она нам каждому насыпала по большой кисеюшке сушеного урюка, вкуснее которого не было ничего на свете. В то время мы были не избалованы сладким, даже съесть порцию молочного мороженого на пергаменте для нас было великим праздником. Когда урюк съедался, то я снимал гирьку с настенных часов-ходиков и приступал к добыванию ядрышек из косточек. У меня была не просто любовь к урюку и кураге, а страстная любовь. Кстати, она сохранилась и в зрелые годы – на нашем столе всегда в наличии сушеные сухофрукты.
Однажды, после очередного вояжа матери на юг, меня уже не удовлетворила положенная мне кисеюшка урюка, и я замыслил его тайную экспроприацию. С вечера, пока мать была во дворе, я тихонько развязал завязки на одном из мешков и стал ждать, когда все заснут. Когда я понял, что все уже спят, то потихоньку встал с постели, на цыпочках подкрался к мешку, залез в него рукой, набрал пригоршню урюка и стал тихо его грызть. И вдруг, я весь обомлел, кто-то шарил по столу, ища спички. Вначале зажглась спичка, а затем керосиновая лампа или каганец (сейчас уже не помню), и, к своему ужасу, я увидел мать, которая стояла и молча смотрела на меня. Не от страха – от стыда – у меня онемели ноги и, заикаясь, я пролепетал: «Мама, я съел всего две штуки, остальное сейчас все положу на место, и больше никогда такого делать не буду».
В первую очередь, я ожидал, что вначале ее рука схватит меня за ухо, затем я получу затрещину, а уже утром моя персона будет предметом сурового осуждения на общем семейном совете. Но ничего этого не произошло. Она присела рядом со мной на табуретку и прижала меня к себе. «Ладно, сынок, доедай, что взял», – сказала мама и заплакала. Мне казалось, что плачет она от обиды на меня. От этого меня душил стыд, и, прижавшись к ней, я умолял ее простить меня за то, что я сотворил.
Только много позже, став уже довольно взрослым, анализируя свои детские поступки, я понял, что плакала она не от жалости к горстке урюка, а от того, что из-за бедности своей не могла позволить себе досыта накормить своего ребенка тем же урюком.
Кстати, надо сказать, что не только наша семья испытывала недостаток в средствах. После войны основная часть населения страны жила в таких же, если не в худших, условиях. Особенно бедствовали солдатские вдовы, оставшиеся с малолетними детьми. Зарплата была чисто символическая. Спасало подсобное хозяйство. Крупный рогатый скот, свиней, коз, овец, гусей, уток, кур держали все. Я не помню на нашей улице ни одного дома, в котором бы не было живности. Например, только с нашей округи, которая составляла примерно десятую часть населения города, весной для выпаса за городом формировалось четыре крупных стада коров. Каждый клочок приусадебных участков был засажен картофелем, овощами. Зерновые отходы на корм домашних животных достать было очень сложно, поэтому многие семьи через предприятия, в которых они работали, брали участки земли за городом, где выращивали картошку, которая зимой шла на корм свиньям и птице. Всем моим сверстникам, в том числе и мне, родителями было вменено в ежедневную обязанность где-нибудь нарвать и принести домой мешок, а то и два, травы для корма домашней живности. Как правило, и все летние работы по выращиванию овощей на домашних огородах – поливка, прополка – были возложены на нас – подрастающее поколение. Нам с самого малолетства прививали обязанности семейного труда.
Надо сказать, что и школа делала все, чтобы дети научились что-то делать по дому. С первого класса на уроках труда нас учили мастерить всевозможные поделки, которые имитировали домашнюю утварь. Например, на уроках труда детские поделки из папье-маше имели вид кружек, тарелок, ваз и т. п. А уже с четвертого класса раз в неделю уроки труда проводились по два часа в специализированных школьных мастерских. При этом нас, как мальчишек, так и девчонок, не разделяя, одинаково обучали столярному и слесарному ремеслу. Мы уже самостоятельно делали маленькие табуретки, изготавливали из листового железа лопатки.