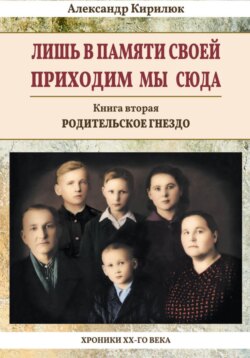Читать книгу Лишь в памяти своей приходим мы сюда. Хроники ХХ-го века. Книга вторая. Родительское гнездо - - Страница 15
Глава III
Щучинск
1952–1960
3
ОглавлениеВыбирать корову отец с Аллой уехали в Чкаловский район, где в тот момент проживали спецпереселенцы – высланные еще до войны с западных районов Украины поляки и немцы. Только у них можно было купить высокопородистый скот. Кроме того, купить корову необходимо было и Кандиным в качестве платы за наше проживание.
Чтобы найти хороших, с точки зрения продуктивности, коров, отец с Аллой обошли несколько деревень. Двух купленных коров более чем за сто километров гнали «своим ходом» – пешком.
Полученная в шахте профессиональная болезнь силикоз очень мучила отца. Я до сих пор помню приступы его кашля. Создавалось впечатление, что из этого кошмара, а приступы его доводили до синевы, выхода никогда не будет. Многие шахтеры, получившие такое заболевание, очень быстро уходили из жизни, так и не дожив и до 60 лет. Но, со временем, отец стал заниматься самолечением – собирал лечебные травы и пил из них отвары, делал всевозможные растирания, ингаляции и болезнь потихоньку стала отпускать его.
Первого сентября старшие дети Алла и Толя пошли учиться в седьмой класс железнодорожной школы № 15. Школа находилась в районе станции примерно в полутора километрах от дома. Все деньги, какие были привезены с Майозека, ушли на строительство дома, так что нормально одеть в школу старших детей у моих родителей просто не было возможности. Как рассказывала Алла, пальтишко у нее было старенькое, привезенное из Майозека, да и платье школьное всего лишь одно. Толя всю зиму проходил в школу также в одной смене – в вельветовой курточке и в сшитых матерью шароварах. Для того, чтобы дети выглядели прилично, каждое воскресенье школьная одежда подвергалась ремонту и стирке.
В этом же году я первый раз смотрел кино. Показывали в большом красном уголке автороты индийский фильм «Господин 420» с Раджем Капуром в главной роли. Народу с близлежащей округи набилась тьма. Сидячих мест было мало, так как в красном уголке было всего только несколько лавок. Многие шли смотреть фильм со своими табуретками и скамейками. Но нам, малышне, достались самые комфортные места перед экраном – «лежачие».
Зима 1952–53 года была для нашей семьи самой тяжелой. Пенсии отца было крайне мало, чтобы содержать семью из шести человек. Тем более, что нужно было еще и достраивать дом. Поэтому мать поначалу ездила в Елизаветинку, где в то время жили ее отец и старшие сестры – тетя Поля и тетя Наташа. Они тоже жили очень бедно – детей у каждой было много, а мужья погибли на фронте. Мать и тетки зимой ночами ходили на неубранные (брошенные под снегом) колхозные поля, срезали шапки подсолнечника, потом их шелушили, семечки сушили и мешками в тамбурах товарных вагонов привозили в Щучинск. Уже дома семечки жарились и продавались на пристанционном рынке. Этот «бизнес» был очень опасным, так как в то время за хищение колхозного имущества можно было «залететь» лет на десять с конфискацией всего добра, которое ты на тот момент имел. Но тогда основная масса населения не жила, а выживала, и поэтому люди старались всячески поддержать друг друга, в том числе и круговой порукой – «не стучать» на соседа.
Кроме коровы, у нас никакой живности пока еще не было. Что-либо купить в магазине у нас также было не на что, да к тому же и нечего – в стране на тот момент были еще даже перебои с хлебом. Самым «крутым» магазином в пристанционном районе был тогда магазин № 5 ОРСа НОД-1. Аббревиатура эта расшифровывалась так – Торговая точка (магазин) № 5 отдела рабочего снабжения начальника Курорт-Боровского отделения Карагандинской железной дороги. Почти до 60-х годов Курорт-Боровское отделение железной дороги было своего рода отдельным государством в городе. У него была своя социальная сфера – торговля (ОРС), медицина (больница и поликлиника), образование (детские сады, две средних и две начальных школы), культура (центральный клуб и несколько клубов по предприятиям). Так вот, этот «пятый», как его называли в просторечии, магазин был для того времени своего рода «супермаркетом». В нем было несколько специализированных отделов продажи. Мне на всю жизнь запомнились полки в этом магазине. Они были густо заставлены бутылками дорогого коньяка, банками с черной икрой и какими-то еще очень дорогими рыбными деликатесами, коробками с шоколадными конфетами, банками сгущенных сливок, коробками натурального кофе и какао, а также дорогими папиросами – «Казбек», «Дюбек», «Северная Пальмира». Говорили, что «Северную Пальмиру» курил сам Сталин. Под стеклом лежали сырокопченая колбаса, кажется, под названием «Столичная», копченая осетрина, красная рыба. Было выставлено и много других разных дорогих вкусностей. Но народ как-то равнодушно взирал на эти витрины и в очереди стоял в основном за растительным маслом, «полубелым» или ржаным хлебом, вареной и ливерной колбасой, дешевой селедкой и килькой пряного посола, камбалой, конфетами «Подушечки», повидлом и джемом, которые продавали в развес из больших десятилитровых металлических банок.
В то время самый вкусный хлеб в городе пекли в железнодорожной пекарне. Располагалась она немного в стороне от железнодорожной больницы, рядом с начальной школой – «Лягушкой». Основная масса свежеиспеченного хлеба распределялась по магазинам ОРСа, которые находились на территории железнодорожных предприятий. Остатки хлеба пускались в свободную продажу в основном через два магазина ОРСа – № 5 и № 3. В народе, как я уже говорил, они получили простые названия – «пятый» и «третий».
Хлеб из пекарни в магазины завозили не раньше двенадцати часов дня, и, как правило, его всем желающим не хватало. Давали его только по одной булке в одни руки. Мать часто рано утром отправляла меня в «третий» магазин, который находился недалеко от пекарни, стоять по полдня в очереди за хлебом.
«Застолбив» свое место в очереди, мы, с позволения взрослых очередников, занимались поблизости своими детскими забавами, в то же время зорко следя за ситуацией с подвозкой хлеба из пекарни в магазин, чтобы не пропустить свою очередь.
Неподалеку от магазина проходила железнодорожная линия, которая шла в сторону горы на щебеночные заводы. Вдоль линии была выкопана большая траншея, в которую сливалась битумная масса. Местными организациями битум использовался для гидроизоляции кровель и фундаментов, приготовления асфальта. Здесь же складировалась в больших круглых чушках твердая битумная смола. Камнем мы откалывали кусочки битума и использовали в качестве жвачки – жевательной резинки в сегодняшнем понимании. В жидкий битум иногда садились воробьи, в основном желторотые птенчики, и тут же попадали в своего рода трясину – лапки их вязли в битуме, взлететь они уже никак не могли и, естественно, погибали. Чтобы вызволить их из этого плена, мы из обрезков досок сооружали своего рода мостки, по которым самый смелый на коленках добирался до несчастной птицы и вытаскивал ее из битума. Птичка была ослабленной, поэтому мы долго и терпеливо приводили ее в чувство – обтирали от битума, поили изо рта водой, кормили крошками. Большой радостью для нас было, когда она взлетала.
На площадке перед магазином стояли высоченные тополя. Мы, мальчишки, чтобы каким-то образом скоротать время, устраивали состязания – кто выше заберется на дерево. Особенной лихостью считалось покачаться на ветке на самой большой высоте. Но однажды случилась беда. Один из мальчишек, кажется, он был то ли со Степной, то ли с Рабочей улицы – я уже сейчас не помню, залез на самую верхнюю ветку тополя, она обломилась под ним, и он упал вниз головой на землю с высоты примерно третьего этажа. Недалеко от магазина находилась железнодорожная больница, и взрослые мужчины почти бегом отнесли его туда. Но, несмотря на это, его не спасли – травма была смертельная. После этого случая нам строгонастрого было запрещено лазить там (у магазина) по деревьям, да и у нас большого желания уже не было.
Для приемки хлеба из пекарни магазин минут на пятнадцать закрывался. Вся собравшаяся толпа тут же начинала броуновское движение, но по направлению к дверям магазина. Хотя мы, детвора, и были более шустрыми, но первыми в магазине оказывались редко. Взрослые нас на входе сразу отсекали, а когда мы все же заходили в магазин, то нас вставляли в очередь согласно занятым местам.
Когда, наконец, долгожданный, еще горячий, хлеб оказывался у каждого из нас в руках, мы стремглав мчались домой. Но по дороге все-таки удержаться не могли, и матерям мы отдавали булки с обгрызенной с одной стороны корочкой.