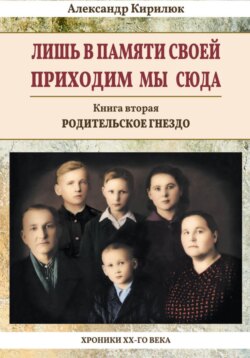Читать книгу Лишь в памяти своей приходим мы сюда. Хроники ХХ-го века. Книга вторая. Родительское гнездо - - Страница 27
Глава V
Техникум
2
ОглавлениеВ назначенные день и час нас посадили в открытые кузовы грузовых машин и повезли на картофельное поле. Благо располагалось оно не так далеко от Щучинска – где-то в километрах десяти. Поле было довольно обширное, примерно, четыре на три километра. Начиналось оно от дороги Щучинск – Кокчетав и шло в сторону озера Малое Чебачье.
Технология уборки картошки в то время была очень проста. Несколько колесных тракторов картофелекопалками выносили картошку на поверхность земли, а наша задача заключалась в том, чтобы собрать ее в ведра, а затем засыпать в кузов машины или в мешки. Начинали мы работу часов в девять, а заканчивали ее, когда уже темнело, примерно в семь-восемь часов вечера. То есть наш рабочий день длился 10–11 часов. Налицо было грубейшее нарушение трудового законодательства в отношении использования детского труда. Но учащихся техникумов тогда детьми уже не считали, хотя каждому из нас было по 14–15 лет.
Мы практически все были не из интеллигентных семей и приученные к труду, но за рабочий день уставали очень сильно. Болело все – спина, ноги, руки. Домой мы попадали не раньше десяти часов вечера, потому что после того как нас довозили до техникума многим на автобусах надо было еще добираться домой. А утром опять подъем в 6 часов, потому что в 8 часов надо быть уже на площади перед техникумом. И так целый месяц без выходных.
Кормили нас по следующему рациону. Часов в 12 дня привозили обед – какую-нибудь кашу с мясом или котлету с картошкой. Давали булку хлеба, белого или черного, на четверых и по кружке молока. Часа в 4 дня был так называемый полдник – опять же булка хлеба, белого или черного, на четверых и по кружке молока. Молоко привозили во флягах. Я не хочу сказать, что оно было несвежее, но часто после его приема некоторых прохватывал слабительный эффект живота, в медицине называемый диареей. Хорошо, что вдоль дороги Щучинск – Кокчетав и вдоль картофельного поля были густые посадки карагача – было куда спрятаться для отправления естественных надобностей. С девчонками мы договорились – они занимали одну сторону, мы другую.
Но как бы то ни было, в конце сентября мы убрали последнюю полоску картофельного поля, и первая наша студенческая сельскохозяйственная страда была завершена. После этого нам дали день или два, сейчас уже не помню, на приведение себя в порядок и, кажется, с 1 октября у нас начались полноценные занятия в техникуме.
Как я уже сказал раньше, группа у нас была самая многочисленная, а по возрастному составу самая неоднородная. Больше половины учащихся нашей группы составляли мои сверстники, которым на момент поступления в техникум было по четырнадцать-пятнадцать лет. Даже был один мальчишка, Вовка Пузач, которому было только тринадцать лет. Другая солидная группа ребят была возрастом на два-три года старше нас. Даже три человека, фамилии их я называть не хочу, оказались в нашей группе как второгодники, то есть не сдавшие экзамены за первый курс. Мы на них смотрели с особым уважением, как на опытных студентов. Довольно солидной была прослойка наших сокурсников, которым перевалило за двадцать лет, некоторые даже успели отслужить в армии, трое студентов были старше нас почти вдвое. Бутову Саше – 24 года, Лысяку Василию – 30 лет, а Русанову (к сожалению, имени его я уже не помню) аж 34 года. По возрасту он таким, как я, годился в отцы. Конечно, держались они в некоторой степени обособленно, «хороводы» с нами не водили, в курилки не бегали, а на занятиях сидели за первыми столами. Было у нас и шесть особ противоположного пола. Правда, двое из них после первого курса перевелись в другие техникумы, третья на втором курсе вышла замуж и уехала, но трое проучились с нами до самого конца.
Конечно, техникум не школа – учебная нагрузка намного выше, особенно по математике и физике. За год мы должны были осилить трехлетнюю школьную программу. Но, как бы то ни было, мне эти предметы давались довольно легко, и у меня проблем с учебой пока не возникало – по основным предметам была твердая четверка. Видя, что я сильно не напрягаюсь, преподаватели меня часто журили – парень способный, а учится без прилежания.
Но стала возникать проблема в другом. Мы, пока еще мальчишки, получили излишнюю свободу в поведении по сравнению со школой. Хотя это не поощрялось, но никто нас не гонял, так как в школе, за курение. Никто не грозился вызвать родителей за огрехи в учебе. Были и другие излишние, на мой сегодняшний взгляд, свободы. Правда было одно очень существенное наказание – за наличие на конец месяца текущих неудовлетворительных оценок лишали месячной стипендии, а это, в данном случае для меня, было довольно тяжелым ударом. В то время наша семья – отец, мать, я и мой младший брат Алеша, жила в основном, на пенсию отца, которая составляла 40 рублей. Сумма очень маленькая, поэтому моя стипендия 18 рублей 50 копеек была сравнительно неплохим довеском к нашему семейному бюджету. Правда, еще иногда появлялись деньги, которые зарабатывала мать мелкой торговлей, но это было нечасто. Старшая сестра Алла была уже замужем и уехала с мужем на его родину, в Тульскую область. Демобилизованный из армии перед Новым годом старший брат Анатолий только начал работать, и его тоже надо было одеть и обуть.
Со второго семестра у нас началось преподавание такого предмета, как черчение. Для нас, умеющих рисовать, только чертиков на партах, эта наука давалась очень тяжело. Во-первых, она требовала неимоверного прилежания и аккуратности – чертили мы тогда тушью. Вовторых, она была очень затратна для нашего бюджета, так как нужно было иметь хорошие чертежные принадлежности – большую готовальню, доску, рейсшину, специальную бумагу (ватман, кальку, миллиметровку). А это стоило все довольно дорого, а главное, было в большом дефиците.
Для проведения занятий по черчению нашу группу разбили на две подгруппы, у каждой был свой преподаватель. Нашу подгруппу вела Мария Семеновна Кубасова. По возрасту она была где-то ровесницей моей матери. По внешности привлекательной ее никак нельзя было назвать, но преподавала она доходчиво, да и женщиной была по-матерински доброй.
После каждой темы занятий мы были обязаны выполнить и сдать своему преподавателю домашнее задание – контрольный чертеж. Из-за своей лени я все затягивал со сдачей. У меня накопилось уже шесть несданных работ. На все ее замечания я реагировал обещаниями, что на следующее занятие обязательно принесу готовые к сдаче работы. Наконец, она не выдержала и вкатила мне двойку, и как раз перед тем, когда подают в бухгалтерию списки для начисления стипендии. Правда, сразу после получения двойки, за неделю бессонных ночей, все мои долги были готовы и представлены Кубасовой. Ее вид, с каким она рассматривала мои чертежи, говорил о том, что она очень довольна качеством исполнения моей работы.
– Ты что, за шесть дней сделал все эти шесть чертежей? – не удержавшись, спросила она меня.
– Точнее, за шесть ночей, – съязвил я.
На мою иронию она отреагировала равнодушно. Вероятно, в ее преподавательской практике попадались экземпляры и похлеще.
– Ведь можешь же. Даже очень профессионально можешь чертить, а ленишься. Вынудил меня поставить тебе двойку, – продолжала она меня воспитывать.
Получил я за свои чертежи очень высокие оценки, но, как говорится, поезд уже ушел. Из-за этой двойки в список нашей группы на получение стипендии, естественно, я уже не попал.
Дома точно знали срок получения мною стипендии, и когда мать поинтересовалась, почему я в это время не принес ее домой, пришлось отчаянно врать про какие-то финансовые неурядицы в бухгалтерии. Она недоверчиво на меня посмотрела, но так как я излучал почти ангельскую чистосердечность, ничего не сказала. Два дня я старался как можно позже возвращаться из техникума домой, мотивируя тем, что у нас ввели дополнительные пары занятий. Дома отец и мать как-то по-особенному стали на меня смотреть, но пока ни о чем не спрашивали. Я прекрасно понимал, что рано или поздно необходимо признаваться, но трусость и стыд не давали мне этого сделать. Где-то дня через четыре после ужина, когда я уже попытался вышмыгнуть из-за стола, отец остановил меня и спросил:
– Ну, а теперь, сынок, скажи нам с матерью, за что тебя лишили стипендии?
Конечно, я уже давно ждал такого вопроса, но здесь он застал меня врасплох. Я глядел себе в ноги, не зная, что сказать в ответ родителям.
– Ну что ты молчишь, как партизан на допросе. Выкладывай по какому предмету у тебя двойка, – голос отца звучал спокойно, но в нем проскальзывали суровые нотки. – А хочешь, я угадаю по какому? Черчение?
Я мотнул головой.
– То-то, я смотрю, что ты целую неделю ночами не спал, все чертил. Не успел, значит?
– Не успел.
– Ну зачем врал-то. Я не ожидал от тебя такой трусости. Ведь понимал, что все равно придется признаваться?
– Понимал.
– Конечно, ты нас здорово подвел. Мы с матерью очень рассчитывали на твою стипендию. На нее мы тебе же хотели на весну новые ботинки купить. Но ты сам себя лишил обновки. Что ж, будешь ходить в старой обуви, пока не получишь стипендию.
Я молчал, но слова отца обливали меня то кипятком, то ледяной водой. Мне было очень стыдно, что моя лень и безделье так негативно повлияли на и без того мизерный бюджет нашей семьи.
– И давай, сын, договоримся вот о чем, – голос отца стал звучать строже. – Чтобы больше ты нам никогда не врал. Понял?
– Понял, – промямлил я.
С этого дня я дал себе зарок в таких неприятных для себя моментах стараться не трусить и говорить только правду, какой бы она ни была.
Как бы то ни было, учебу на первом курсе я завершил успешно. Но численность нашей группы сократилось почти наполовину – на втором курсе нас уже было 24 человека. Кого-то отчислили за неуспеваемость, кто-то уехал в другой город, кто-то перевелся в другой техникум.
Вспоминая весну 1961 года, я не могу не сказать об одном очень знаменательном событии, которое произошло в то время. 12 апреля, по какой-то причине, сейчас уже не помню, я довольно рано – часов в 12, пришел из техникума домой. На улице я увидел своих соседских ребят Юрку Исакова и Генку Юртаева. Мать Генки, тетя Зина, была на работе, и ребята позвали меня на часок перекинуться в картишки «в дурачка», а заодно и перекурить. Я быстро что-то перекусил и побежал в дом Юртаевых. В доме у Генки на стене висел репродуктор городского радио. Мы играли в карты, а репродуктор сопровождал нас какой-то музыкой. Где-то, в час дня музыка вдруг резко прекратилась, и в репродукторе раздался голос Левитана. Этого диктора все, даже мы, мальчишки, знали по голосу. Говорил Левитан примерно следующее: – «Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем срочное правительственное сообщение. Сегодня на околоземную орбиту впервые выведен космический корабль с человеком на борту. Пилотирует корабль гражданин СССР майор Гагарин Юрий Алексеевич. Полет проходит нормально».
Это сообщение было громом среди ясного неба. Карты и курево было сразу забыто. Мы выскочили на улицу. Тут же на улицу из всех домов стали выбегать взрослые. Несмотря на то, что более половины жителей находилось на работе, собралась довольно внушительная толпа. У всех лица сияли от счастья. Было состояние какой-то немыслимой эйфории, дикой народной радости и гордости за свою страну. Я потом спросил у матери, как она сможет охарактеризовать то чувство, когда она узнала о полете Гагарина. «Близко к тому ощущению, которое пережила я, когда услышала о победе в 45-м году», – сказала она.
Ближе к Новому году нас, так называемую «несоюзную молодежь», то есть тех, кто еще в школе не стал комсомольцем, скопом срочно приняли в комсомол. Для этой цели даже провели в техникуме выездное заседание бюро райкома комсомола.