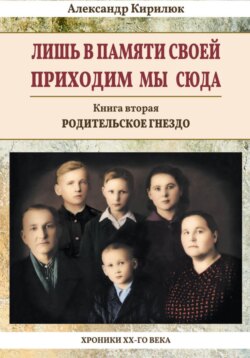Читать книгу Лишь в памяти своей приходим мы сюда. Хроники ХХ-го века. Книга вторая. Родительское гнездо - - Страница 16
Глава III
Щучинск
1952–1960
4
ОглавлениеКогда настали крепкие морозы, мать покупала в магазине большие плитки китайского черного чая и ездила на попутных машинах в деревни спецпереселенцев (немцев и поляков) Красноармейского, Келлеровского и Чкаловского районов. У них она меняла чай на продукты (муку, масло, сало и т. п.). В то время спецпереселенцев почти не выпускали за пределы населенного пункта, где они проживали.
Как сейчас помню возвращение ее из одной такой поездки. Приехала она тогда в кузове грузовой машины и так промерзла, что даже не могла говорить, просто сидела на печке и дрожала.
Уголь для отопления дома купить также было не на что. Пятнадцатилетняя Алла и четырнадцатилетний Толя первую зиму ночами ездили с санками за углем на станцию. Там они находили стоявшие эшелоны с карагандинским углем. Толя забирался на вагон и сбрасывал сверху крупные куски угля. Алла собирала уголь и складывала его в мешки. Так набирали 3–4 мешка угля, который потом на санках везли домой. Очень большой удачей считалось, если попадали на вагон, загруженный высококачественным углем для металлургического производства – антрацитом. Он горел, как сухие березовые дрова, и от этого горения было очень тепло. Но чаще всего попадались куски угля с большими вкраплениями каменной породы, которые только дымили, а тепла не давали.
Иногда брат с сестрой в вылазку за углем брали с собой и меня, для того чтобы я стоял на «шухере» и вовремя сигнализировал им при появлении железнодорожных работников.
Конечно, наши криминальные действия по добыче топлива всегда были чреваты наихудшими последствиями. Как не оправдывай их нуждой, все-таки это называлось воровством, за которое, в случае поимки, грозило суровое наказание и худая слава в школе. Кроме того, это было еще и очень опасным мероприятием. Нельзя быть застрахованным от того, что поезд мог внезапно тронуться. А трогались тогда тяжелые грузовые составы рывком, и Толик мог просто слететь с вагона и попасть под его колеса.
В моей памяти сохранился именно такой страшный случай. По воскресеньям в рабочих клубах локомотивного и вагоноремонтного депо, которые находились на другой стороне железнодорожной станции, для детей своих работников бесплатно показывали кино. Как правило, на халяву ребятня сбегалась отовсюду. Нам, чтобы попасть туда, приходилось пересекать все железнодорожные пути, которые были тесно заставлены гружеными составами. Дело в том, что в то время железнодорожное сообщение в разные стороны осуществлялось только по одному пути или, как тогда говорили, колее. Станции и многочисленные разъезды использовались для временного отстоя поездов до освобождения пути. Переходной мост через железнодорожные пути тогда еще не был построен, и поэтому пересекать нам это препятствие приходилось в основном пролезая через пути под вагонами. Это было очень опасно, потому что в любой момент состав, под которым ты в это время пролезаешь, мог внезапно тронуться. А трогались они, как я уже говорил, рывком. На моих глазах один мальчишка, то ли с Рабочей, то ли со Щучинской улицы, пролезая под вагоном, в такой момент запнулся о рельс и не успел выскочить. Ему выше колен отрезало обе ноги. Как сейчас помню, он сидел весь белый, ничего не говорил, а только непонимающе смотрел на свои лежащие рядом обрубки ног.
Один раз ночью я проснулся от плача матери и сестры. Оказалось, что Толя, залезая на вагон, поскользнулся на металлической скобе, укрепленной на борту вагона, и упал вниз головой с трехметровой высоты. Алла вместо угля привезла брата в бессознательном состоянии. Двое суток мать не отходила от постели находящегося в бреду сына. Слава богу, эта травма не оставила последствий. После того случая поездки за углем прекратились. Мать сказала: «Пусть лучше они будут недоедать, чем я их буду хоронить».
Вообще-то, на всевозможные травмы головы Толе почему-то «везло». Сразу после войны в Жолымбете, где мы в то время жили, был лагерь пленных японцев. Работали они на погрузке и отвозке поднимаемой из шахт золотоносной руды. Толик, которому в то время не было еще и семи лет, постоянно крутился около них. Неизвестно по чьей инициативе, японцы устроили своего рода шоу – они перебрасывали породу лопатами, а Толик должен был успеть пробежать между бросками лопат. То ли Толя замешкался, то ли японцы увеличили темп, но в одну из таких пробежек он получил лопатой японца довольно сильное рассечение головы. Отец ходил тогда разбираться, но ему лагерное начальство дало понять, что за малолетними детьми необходимо смотреть родителям. Как я уже писал раньше, в Майозеке Толя на коне, на всем скаку залетел в сарай и врубился лбом в верхний косяк ворот, слетел вниз и потерял сознание.
Весной 1953 года отец заготовил в Балактинском лесничестве необходимую древесину и за лето в доме были завершены строительные работы – сделаны перегородки, постелен пол. Внутри дома было все вымазано и побелено, построены помещения для скотины. У нас на подворье появились куры, поросята. Отелилась телочкой корова. Жизнь стала потихоньку налаживаться.
Помню еще случай. Мы все были заняты какой-то работой по дому, в том числе и я, а мой младший братишка Алеша играл около дома. Вдруг кто-то заметил – то ли мать, то ли Алла, что Алешки около дома нет. Думали, что он у соседей. Обежали всех соседей – его нет. Искали мы его полдня. Мать была уже в истерике. Мы с Толиком побежали в «живзащиту» (так в обиходе называли питомник лесонасаждений железной дороги). Оббегали ее вдоль и поперек – Алешки нигде нет. Уже все, отчаявшиеся, собрались идти домой, как вдруг из-за куста выходит наш братишка. Радости нашей не было границ. А когда его спросили, как он сюда пришел, то двухлетний ребенок ответил (а говорил он еще не очень хорошо), что туда полетел маленький воробышек, а он пошел его искать.
Летом 1953 года отец пошел работать кладовщиком на расположенную напротив нашего дома нефтебазу (склад горюче-смазочных материалов), принадлежащую Боров-ской МТС. В то время в Щучинском районе было более сорока колхозов. Их обслуживали три машинотракторных станции (МТС) – Боровская, Урумкайская и Веденовская. В зоне обслуживания Боровской МТС находилось примерно полтора десятка колхозов. Только на территории города Щучинска их было два. В каждом обслуживаемом колхозе МТС имела свою тракторную бригаду, которая производила все механизированные работы в полеводстве. Дизельное топливо в полеводческие бригады для тракторов доставлялось с нефтебазы гужевым транспортом – лошадьми и волами. Телеги были удлиненные с двумя продольными бревнами, между которыми закатывались и фиксировались двухсотлитровые металлические бочки с соляркой, бензином или машинными маслами. Возчики горючего приезжали на нефтебазу каждый день, а то и два раза в день, и в любое время. Поэтому рабочий день у отца был ненормированный. Зачастую, как только отец приходил домой, подъезжала из какой-нибудь тракторной бригады подвода, и ему приходилось идти опять на работу отпускать топливо. Иногда отец даже не мог прийти пообедать, и я нес ему перекус на работу, благо все было рядом. Мы, дети, знали практически всех возчиков и иногда пользовались возможностью доехать с ними до ягодных мест. Окрестности Щучинска всегда отличались обилием грибов и ягод.
Кстати, работа на нефтебазе позволила отцу изобрести уникальную методику лечения простудных заболеваний нефтепродуктами. В то время лекарств купить было негде, да и не на что. Простудные заболевания с высокой температурой у своих детей отец лечил автолом и керосином. Заболевшего он полностью обмазывал автолом и обертывал старым тряпьем. Подошвы ног обтирались керосином, а ноги одевались в шерстяные носки. Затем вся эта кукла помещалась на жарко натопленные полати – лежанку русской печи и спускалась оттуда только для еды и для отправления естественных нужд. Часто достаточно было всего одной такой процедуры, чтобы ребенок полностью выздоровел. Ангину мы также лечили керосином, полоща им горло.