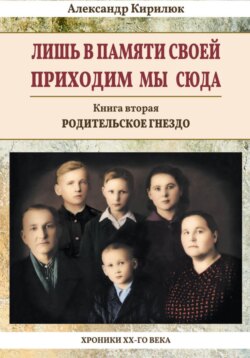Читать книгу Лишь в памяти своей приходим мы сюда. Хроники ХХ-го века. Книга вторая. Родительское гнездо - - Страница 2
Глава I
Жолымбет – Майозек – Жолымбет
1937–1949
2
ОглавлениеПервая похоронка в село Елизаветинка пришла в семью Ивана Сергеевича Треносова на сына Сергея в самом начале войны. Сергей служил срочную службу в армии в Белоруссии в приграничных частях. Службу он завершал и осенью 1941 года должен был демобилизоваться. Как он погиб и где похоронен, неизвестно. Все мои поиски в интернете какой-либо информации о нем положительного результата не принесли.
В Жолымбете, как и везде по стране, также началась мобилизация в армию резервистов. Отца призвали в действующую армию в первые месяцы войны.
Как рассказывала мне Алла, а ей в то время уже шел четвертый год, и она хорошо помнит то время, проводы были тяжелыми.
При погрузке мобилизованных на машину мать стала плакать, а маленький мой старший братишка Толя (ему в то время не было и трех лет) ручонками вытирает матери слезы и говорит: «Мама, не плачь, папа обязательно вернется».
А рядом мальчишка, чуть постарше Толика, рыдает на груди у своего отца. Мать его успокаивает: «Не плачь, папа вернется», а он: «Нет, папа не вернется, папу убьют». И точно – вскоре они получили похоронку.
На следующий день мать поехала на станцию Шортанды, где формировались команды на отправку, чтобы еще раз увидеть отца. Но встретиться им уже не пришлось – оказалось, что команда, в которую был зачислен отец, уже отправлена. Когда она стала расспрашивать в районном военкомате – когда и куда их отправили, то начальник сборного пункта, уже довольно немолодой военный, ей сказал: «Не волнуйся, солдатка, твоему мужу пока повезло – их отправили на Дальний Восток».
Как потом говорил отец – трудно оценить, где было лучше находиться во время войны – на западе или на востоке. И зимой, и летом сутками лежали в окопах на маньчжурской границе. Постоянно ждали нападения японской армии. Мелкие провокации со стороны японцев были почти ежедневными, но была жесткая команда – на них не отвечать. Руководство Советского Союза очень не хотело войны на два фронта, а японцы еще не забыли свой разгром под Халхин-Голом. Кормежка была очень скудная. Отец не курил, но свою норму махорки получал сполна и менял ее у жителей ближайших сел на продукты. Особенно тяжело было зимой – мороз под тридцать, а то и сорок градусов и сильный ветер, а из теплой одежды – только шинель и кирзовые сапоги. Много солдат умерло от простудных и кишечных заболеваний. Просьбы на отправку на западный фронт резко отклонялись.
Только летом 1945 года были начаты активные военные действия. Война с японцами длилась меньше трех месяцев. Отец освобождал северо-восточную часть Китая и Северную Корею. Войну закончил на Курилах.
После ухода отца на фронт мать осталась с тремя детьми. Старшему, Михаилу, шел тринадцатый год, Алле – четвертый и Толику – третий.
Условия жизни во время войны для семей фронтовиков, в том числе и нашей, были крайне тяжелыми. Заработной платы матери по основной работе на пропитание семьи не хватало. Очень трудно было создать и вести свое домашнее подсобное хозяйство. В Жолымбете был большой дефицит пресной воды, поэтому бесполезно было выращивать какие-либо огородные культуры. Кроме того, отсутствие вблизи рудника хороших выпасов делало невозможным содержание скота и птицы. Из-за нехватки витаминизированных продуктов (фруктов, овощей) у шестилетней Аллы началась цинга. Пришлось ее срочно увезти на все лето в Даниловку к тете Марфе (сестре отца) на морковку и молоко. У нее были свой огород и корова.
С начала процесса индустриализации страны – до войны, во время войны и еще очень долго после войны (практически до 90-х годов) в структуре крупных промышленных предприятий функционировали специальные подразделения по обеспечению работников предприятий продовольственными и промышленными товарами, так называемые отделы рабочего снабжения – ОРСы. Администрациями предприятий ОРСы использовались как еще один дополнительный стимул для повышения трудовой дисциплины и роста производительности труда – в качестве поощрительной меры применялось обеспечение вне очереди дефицитными товарами передовиков производства. В тресте «Каззолото» функции такой службы рабочего снабжение выполняло специализированное предприятие «Золотопродснаб».
Почти всю войну мать проработала в его подразделениях по производству и заготовке продуктов питания для работников треста «Каззолото». В качестве руководителя (бригадира) специальных бригад «Золотопродснаба» сажала и копала картошку на арендованных землях близлежащих совхозов и колхозов, ездила заготавливать рыбу на озера в Кургальджино, собирать и солить грибы в Даниловку.
Чтобы как-то накормить детей, мать бралась за любую дополнительную работу. Стирала спецодежду для рабочих организаций и предприятий рудника, делала саман для строительства. Кроме того, в нерабочее время вязала по заказам соседских женщин платки, детские шапочки, носки, рукавицы из пуха местных коз. В период уборки урожая нанималась на временную работу в близлежащие колхозы и совхозы, где расплачивались продуктами – зерном, крупой, мукой, картошкой и т. п. Большая проблема заключалась в доставке их домой, так как транспорта, даже гужевого, никто не давал. К примеру, как-то заработав в ближайшем от рудника совхозе «КазЦИК» мешок муки, она на тележке везла его домой восемнадцать километров. Но зачастую заработанные продукты приходилось нести непосредственно на себе.
Мать делала все возможное и невозможное, чтобы мои старшие братья и сестра не испытывали, как дети других семей, голода, а иногда даже баловала изысканной, по тем временам, едой.
Уже в Щучинске, будучи взрослыми, они со смехом рассказали мне один курьезный случай, который произошел с ними во время войны. Как-то мать с очередной сезонной работы в одном из колхозов привезла домой зарплату (немного муки и кусок мяса) и решила устроить детям праздник – накормить их пельменями. Когда чашка с дымящими пельменями стояла на столе и вся семья готовилась за него сесть, вдруг зашел цыган (рядом с их домом разместился табор) и с радостным причитанием: «Ах, пельмешки, вы мои пельмешки – какие же вы вкусные», прямо руками стал выхватывать их из чашки и горячими заталкивать в рот. От такой беспардонности все на некоторое время онемели, не зная, что сказать и что делать. Когда спохватились – чашка с пельменями была уменьшена почти наполовину. Цыган блеснул довольными глазами, вытер рукавом рот и даже не сказавши «спасибо» исчез за дверьми.
Кроме того, мать с 1943 года фактически добровольно взвалила на себя обязанности по содержанию своей младшей сестры Анны с двумя ее малолетними детьми – трехлетней Галей и двухлетней Валей.
Анна родилась в 1922 году и была на десять лет младше матери, так что старшая сестра с самого ее рождения была ей нянькой, и относилась как к собственному старшему ребенку.
Анна очень рано (в 17 лет) вышла замуж за работавшего на руднике парня Егора Суханова. Еще до войны они переехали жить к его родителям в город Шадринск Курганской области. После ухода мужа на фронт Анна осталась с малолетними детьми на руках. Казалось бы, рядом с родителями мужа можно было, хоть и очень тяжело, пережить военные годы, но у нее с ними не сложились отношения. Анна была еще очень молода, часто посещала веселые компании, а это им очень не нравилось.
К слову сказать, тяга Анны к веселой жизни оказала ей невеселую услугу – муж и отец ее детей Суханов после войны к ней не вернулся, хотя с фронта он пришел живой и здоровый.
Как ценный работник, мать всегда была в очень хороших отношениях с руководством «Золотопродснаба» – директором Барановым и главным бухгалтером Пьянковым. Зная это, Анна прислала своей старшей сестре слезное письмо, в котором просила уговорить их помочь выхлопотать ей с детьми пропуск для приезда на постоянное место жительства к отцу и сестре в Жолымбет. Тогда все въезды на золотые рудники осуществлялись только по пропускам, так как, я уже об этом писал, трест «Каззолото» входил в систему НКВД.
Отец матери, мой дед, Иван Сергеевич Треносов, жил в это время с младшим сыном Ильей в десяти километрах от Жолымбета в маленьком поселке Первомайский, где была угольная шахта. Илья был 1925 года рождения, но его, чтобы уберечь от фронта, записали с 1927 года. Бабушка Поля умерла в конце 20-х или в начале 30-х годов (точной даты мне никто не смог сказать). У старших сестер матери, Полины и Натальи, живших в Елизаветинке, семьи были многодетные, а мужья тем временем уже погибли на фронте. Поэтому Анну с ее старшей дочерью Галей приютила наша мать.
Чтобы получить в Жолымбете постоянную прописку, вначале Анне нужно было идти работать в шахту. Через полгода, отработав положенный срок, она уволилась и занялась частной коммерческой деятельностью – в простонародье «спекуляцией». Через год она привезла в дом к моей матери и младшую дочь Валю. Так как частная коммерция (спекуляция) требовала постоянных разъездов, малолетние дети Анны практически были на попечении моей матери.