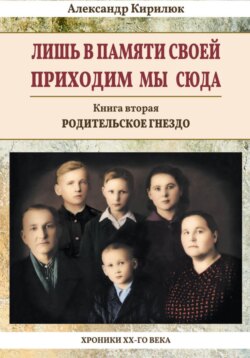Читать книгу Лишь в памяти своей приходим мы сюда. Хроники ХХ-го века. Книга вторая. Родительское гнездо - - Страница 7
Глава II
Майозек
1949–1952
1
ОглавлениеВ конце мая 1949 года наша семья опять переезжает на рудник Майозек. Дословно «Майозек» в переводе с казахского языка означает «Масляная балка», или «Масляная лощина». Наверное, в этой балке, или лощине, была очень жирная, то есть плодородная, земля. Есть еще один перевод – «пышная трава».
Причиной переезда нашей семьи на рудник Майозек послужили следующие обстоятельства. Первоначально родители предполагали переехать совершенно в другое место. Дело в том, что руководителя «Золотопродснаба» Баранова перевели на работу на новый рудник, который начали строить в Средней Азии под Ташкентом, и он в письмах стал уговаривать на переезд туда и некоторых, как он считал, наиболее квалифицированных работников, в том числе и моих родителей. Отец с матерью, поддавшись на его уговоры, распродали все свое имущество – домик, корову и т. п. – и готовились к отъезду.
Когда они уже были готовы на переезд, то есть, как говорится, «сидели на чемоданах», отец встретился со своим товарищем, который прожил всего полгода на этом руднике в Средней Азии и вернулся с семьей обратно. Узнав, что мой отец с семьей тоже собрался туда ехать, он сказал ему: «Я категорически тебе не советую этого делать, но если хочешь потерять семью, то езжай». Дело в том, что за эти полгода пребывания в Средней Азии все его дети очень тяжело переболели малярией, а один ребенок умер. И он, чтобы спасти остальных детей, вынужден был срочно уехать обратно.
После этого разговора отец сразу отменил свое решение по переезду в Среднюю Азию и был настроен остаться в Жолымбете. Но тут воспротивилась мать: «Ты можешь представить себе – с каким настроением я буду ходить мимо своего дома и смотреть, как кто-то там живет и доит мою корову». Она особенно тяжело переживала расставание с коровой, которая, по ее мнению, была основной спасительницей ее детей от голода и болезней в войну.
Кроме того, как мне кажется, на желание матери уехать из Жолымбета повлияли еще несколько обстоятельств. Это затянувшиеся неприятности с Михаилом и его бегство из дома, а также дополнительная нагрузка, которую она несла по содержанию малолетних детей своей младшей сестры Анны. Ее очень угнетала постоянная конфликтность Анны вначале с Михаилом, а потом и с отцом. Все это не создавало условий для спокойной жизни в Жолымбете. Я думаю, что мать просто устала от этих житейских дрязг, и ее душа требовала каких-то перемен. Отец тоже прекрасно понимал сложившуюся ситуацию, а изменить обстановку можно было только путем переезда на новое место жительства. Вот в таких условиях и было принято решение о переезде на рудник Майозек.
Почему был выбран именно Майозек? Во-первых, он находился относительно недалеко от Жолымбета (около 250 км), и поэтому переезд обещал быть не таким тяжелым. Во-вторых, они уже там жили до войны. В-третьих, рудник Майозек, как и рудник Жолымбет, входил в состав треста «Каззолото» и данный переезд можно было оформить как перевод по работе, в соответствии с чем нашей семье выделили транспорт на переезд и небольшие подъемные.
Все имущество уместилось в кузове грузовой машины ЗИС-5. У переднего борта был размещен ножками вверх стол, который еще до войны подарил им на свадьбу свояк отца Иван Грудачев, муж старшей сестры матери Натальи. Внутри стола были сложены постельные принадлежности и одежда. Рядом со столом были уложены несколько табуреток и ящики с посудой и прочим скарбом. Далее по ширине кузова были установлены три кадушки под воду. За ними разместили трех коров, купленных на вырученные от продажи дома и всего имущества деньги. Мать со мной разместилась в кабине. Отец, Алла и Толик – в кузове.
Дорог, в нашем сегодняшнем понимании, в то время в Северном Казахстане практически не было. Ехали проселочными дорогами – тропами, накатанными в основном телегами. Благо, что отец до этого работал заготовителем скота и довольно неплохо ориентировался в их географии.
Местность, через которую пришлось проезжать, довольно густо была заселена трудовыми поселками спецпереселенцев и лагерями НКВД. Одним из самых знаменитых в ту пору был лагерь под названием АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников Родины), который располагался в сорока километрах за Акмолинском по направлению к Кургальжино. Как правило, женщин, отсидевших свой срок и ожидавших разрешения на выезд, а также тех, которых переводили отбывать остатки срока на поселении, селили в малых селах и аулах, находящихся недалеко от лагеря.
В одной такой деревушке, подъехав к крайней землянке, решили попросить воды и спросить правильно ли едут. Отец постучал в дверь. Из землянки вышла женщина в накинутом на плечи каком-то непонятном тряпье и пригласила нас в дом. Зашла в дом вместе с родителями и Алла.
Землянка была очень маленькая. Из помещений в землянке была только одна комната в одно окошко. Выход на улицу был сразу из комнаты – сеней не было.
То, что поразило девочку, хотя она тоже жила в семье с минимальным достатком, так это идеальная чистота и звенящая пустота в доме. В чистой с выбеленными стенами и вымазанным глиной полом комнате стояли только стол, одна лавка и ведро с деревянным ковшиком. На небольшой печи, как сирота, одиноко стоял чугунок. Ни посуды, ни постельных принадлежностей, ни какой-либо одежды, нигде ничего не было видно.
Женщина занесла бидон только что надоенного или купленного молока и поставила его на стол. Разглядев Аллу, она налила в ковшик немного молока и произнесла: «Угощайтесь». Родители, глядя на убогость ее жилища, вежливо отказались и стали ее расспрашивать о дороге. Поняв, куда мы направляемся, она сказала: «Дорогу, как могу, вам объясню, но выйти показать не смогу – мне совершенно нечего надеть».
Подъезжали мы к Майозеку уже поздно ночью. Было очень темно. Шедшая вдоль небольшой речки дорога привела нас к плотине. Но, чтобы попасть в поселок, надо было её проехать. Машина выехала на плотину, и вдруг шофер резко затормозил. Кто спал или дремал, то сразу проснулся. Отец с водителем что-то рассматривали впереди. Оказалось, что в плотине после дождя образовалась промоина величиной в небольшой овраг. Только чудо спасло нас от катастрофы.
Пришлось долго искать объезд. Уже только на рассвете мы добрались до окраины старательской слободки, находящейся на расстоянии примерно трех километров от основного поселка рудника. На полянке выгрузили вещи и пустили скот пастись.
Через некоторое время местные жители стали со своих дворов выгонять скотину в табун. Увидели нас, стали расспрашивать – кто такие и откуда. Нашлись и знакомые, которые знали моих родителей еще по совместной жизни в Майозеке до войны, и те, кто раньше переехал из Жолымбета.
На первое время приютила нас в свой дом женщина по фамилии Поливанова, которая жила вместе со взрослой дочерью Дашей в маленьком домике (землянке) недалеко от того места, где мы разгрузились. В этом домике нам была выделена отдельная комната. Но прожили мы у них недолго, в основном из-за тесноты и из-за моей активной деятельности. Как говорила бабка Поливаниха: «Вин таке шустрый, таке шустрый, що аж кит (кот) с хаты сбежав».
Затем мы сняли комнату в другом доме. Хозяйка дома предоставила нам жилье на условиях, чтобы мы обслуживали их скот наравне со своим (наших три коровы и у них было две). Дело в том, что муж у нее был постоянно в командировках в Караганде, а она сама имела патент на индивидуальную трудовую деятельность – шила на дому платьишки, штанишки, рубашонки из дешевых тканей для местной детворы.
В выполняемые нами функции по обслуживанию хозяйского скота входили следующие действия – выгон коров в стадо на пастбище и встреча их обратно, дойка и перегонка молока на сепараторе, уборка навоза из хлева и другие сопутствующие работы по содержанию скота. Но так как наши родители уже взяли участок земли и сразу приступили к строительству своего дома, то есть землянки, то вся тяжесть этой работы легла на плечи одиннадцатилетней сестры Аллы и десятилетнего брата Толи. Большая ее часть, конечно, досталась, как девочке, Алле. Кроме того, необходимо было дополнительно присматривать еще и за малолетним сыном хозяйки дома, так как она часто отлучалась в Караганду покупать ткани.
Старательская слободка по населению была небольшая – не более 20–30 дворов. Рядом протекала небольшая речка, которую перегородили плотиной (земляной дамбой), и получился довольно внушительный пруд. В районе плотины пруд еще был, и довольно глубокий. Кроме того, в нем водились караси.
Участок земли, который нам дали под строительство дома, был на отшибе от основного поселения старательской слободки – по другую сторону плотины. Неудобство жизни на отшибе, в смысле постоянного общения с остальными жителями слободки, компенсировалось другим преимуществом – наличием рядом нетронутых никем выпасов для скота. Я думаю, что родители именно по данной причине предпочли этот участок для застройки. В дальнейшем, перед нашим отъездом в Щучинск, здесь уже стояли дома шести семей – наш, Латыповых, Коробко и Сероштановых. Фамилии двоих я не помню.
Сразу по приезде в Майозек отец пошел работать в старательскую артель шахтопроходчиком. Мать полностью занималась делами по хозяйству и строительству дома. В то время основным строительным материалом для возведения дома была земля. Отец вечерами накапывал из верхнего слоя почвы дерновые пласты. Мать их днем сушила – по несколько раз переворачивала.
В течение месяца были полностью подготовлены пласты на дом. Для фундамента использовался местный камень-плетняк, который наламывался на ближайших сопках. В то время практически невозможно было купить, или, как тогда говорили, достать цемента, так как в свободной продаже его просто не было. Поэтому камень в фундамент клался на глине, в лучшем случае на извести.
Когда стены дома-землянки были готовы, на них клались перекладины-матки, представляющие собой бревна – подтоварник или толстые жердины, которые отцу дали в старательской артели. Далее на матки часто – один к одному – клалась чаща – мелкие ошкуренные жердочки местного кустарника-карагача. Получался своего рода каркас потолочного перекрытия. Сверху этот каркас обмазывался толстым слоем глины с соломой. После того, когда этот слой обмазки хорошо высыхал, приступали к завершению устройства крыши. На готовое перекрытие засыпался толстый слой земли – не менее полуметра – и формировались скаты. Скаты для той зоны делались немного пологими, так что крыша напоминала собой приплюснутую шляпку гриба. Сверху уже сформированная крыша также обмазывалась толстым слоем глины с соломой и «шпаровалась», то есть производилась своего рода полировка поверхности. Раствор для «шпаровки» приготавливался в определенных пропорциях из глины, просеянного песка и конского навоза (для придания мягкости раствору). При такой конструкции с крыши летом хорошо стекала вода, а зимой сдувало снег.
Кстати, такой же раствор в основном применялся и для еженедельной промазки полов в землянках. Доски тоже были в большом дефиците, поэтому в то время редко у кого были деревянные полы. Но справедливости ради надо сказать, что земляные мазаные полы в таких землянках для утепления, как и в казахских юртах, застилались еще или кошмой, или толстыми домоткаными половиками, хотя это не спасало малолетних детей от хронических простудных заболеваний. В то время туберкулез был одной из основных заболеваний среди казахского населения.
Такой дом, как правило, состоял из следующих помещений – холодные сени, кухня-столовая и чистая комната (горница). Между кухней и горницей возводилось основное отопительное сооружение внутри дома – печь. Печь включала в себя плиту, на которой готовилась пища, и русскую печь, состоящую из топки – сводчатого сооружения с подом для выпечки хлеба и полатей, которые располагались над топкой. Из плиты и из русской печи дымовые выходы встраивались в стену обогрева, которая представляла собой систему вертикальных дымоходов в форме лабиринта. Кроме основной функции – большого отопительного прибора – стена обогрева выполняла еще и роль перегородки между комнатами.