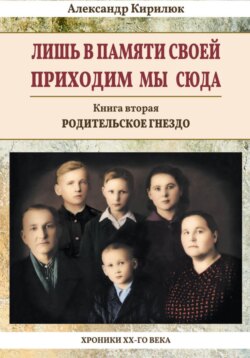Читать книгу Лишь в памяти своей приходим мы сюда. Хроники ХХ-го века. Книга вторая. Родительское гнездо - - Страница 22
Глава IV
Территория детства
1
ОглавлениеУчасток городской территории, простой топоним, определяющий место твоего проживания, или, на мальчишеском сленге, просто «наша улица», часто звучит в разных значениях. В одном случае она характеризует место твоего проживания, в другом среду твоего проживания и, зачастую, не всегда хорошую («его воспитала улица»). Но никто не будет отрицать того, что, когда вспоминаешь свои детские годы, в первую очередь всплывают картины «нашей улицы», самоотверженной и бескорыстной дружбы ее мальчишек и девчонок, доброго отношения к тебе взрослых соседей. Только на «нашей улице» ты мог входить в любой дом и хозяйка этого дома, мать твоего уличного друга, могла так же тебя накормить как родная мать. Только на «нашей улице» отец твоего товарища помогал тебе сделать или починить какую-нибудь игрушку, как своему родному сыну.
«Нашей улицей» считалась группа частных домов первых двух кварталов Каменно-Карьерской, а также параллельных ей, Зеленой и Луговой, а чуть позже и Элеваторной, улиц со стороны железнодорожной станции. Это была территория, где мы были очень тесно связаны своей дворовой дружбой, своими уличными законами и традициями. Все, что находилось за пределами «нашей улицы», было чужой территорией. Конечно, с ребятами с других территорий мы иногда тоже тусовались, вместе ходили по одной дороге в школу, но наиболее близкие отношения между собой были все-таки только на своей территории.
Наша, Каменно-Карьерская, улица застраиваться стала с начала 1944 года. В это время в Щучинск привезли большую партию репрессированных с Кавказа семей ингушей. Большая часть из них получила земельные участки под постройку землянок за железной дорогой – в Копае. А оставшейся части (семей 40–50) выделили участки под застройку на конце завершающей свое формирование Луговой и в начале новой Каменно-Карьерской улицы, со стороны гор в сторону железнодорожной станции. Чуть позже, месяца через три, завезли сюда и понтийских греков с Крыма. Им уже достались участки на Каменно-Карьерской и Зеленой улице.
Последние кварталы нашей и Зеленой улиц, в сторону железнодорожной станции, был застроены уже после войны. Здесь участки под строительство домов нарезались уже, в основном, молодым семьям из нашего города или таким, как мы, приехавшим на постоянное место жительства из других мест Казахстана. Поэтому в нашей округе преобладали русские и украинцы, хотя по одной или две семьи были представлены и другие национальности – казахи, мордва, татары, немцы, поляки, греки.
Описание нашей территории я хочу начать с соседей. Наш дом был самым крайним – конечным. Далее уже проходило большое шоссе, по которому из сел района привозили зерно на элеватор. Правда, про шоссе я загнул несколько круто. Оно появилось гораздо позже – когда уже завершали строительство элеватора. А до этой поры это был просто большак – широкая грунтовая дорога, связывающая город с доброй половиной сел нашего района.
Практически в одно и то же время рядом с нами строил свой дом наш ближайший сосед Алексей Котляр. А напротив нас на другой стороне достраивал свой дом Николай Кириенко.
Алексей Котляр работал преподавателем, или мастером производственного обучения в железнодорожном ФЗУ, поэтому на строительстве его дома постоянно работали молодые ребята (подростки) – учащиеся ПТУ. Семья была довольно молодая, хотя Котляру уже было за тридцать лет. Его жена Дарья была намного моложе его и нигде не работала. Кстати, хочу сказать, что в то время многие женщины не работали – семьи были большие, да и домашнее хозяйство у всех было немаленьким. Родом они оба были из села Дмитриевка, которое находилось в 25 километрах от Щучинска. На момент, когда мы стали строить свой дом, у них была маленькая дочь Нина. Позже в их семье появилось еще двое детей – сын Саша и дочь Лена.
Следующим от Котляра (по нашей стороне) стоял дом Сергея и Марии Мусатовых. Родом они были, кажется, с Южного Урала. Семья Мусатовых была многодетной. Четверо ребят родились до войны (Алик, Володя, Николай и еще кто-то) и трое после войны – Валя (1947 г.), Женька (1949 г.) и маленькая Танька (1952 или 1953 года).
Алик (или Алексей) был лет на пять старше других довоенных и, когда мы начали строить дом, то уже заканчивал наш горно-металлургический техникум. После окончания техникума он уехал работать в Челябинскую область, в знаменитый на всю страну закрытый город Челябинск-40.
Володя и Николай были примерно одного возраста с Алисой и Анатолием, дружили между собой, вместе бегали на танцы. Ребята были очень спортивные – занимались вольной борьбой. Оба постоянно участвовали в соревнованиях. После окончания школы они уехали к Алику, поступили в Челябинский институт физкультуры, продолжили заниматься спортом – стали мастерами спорта. В последнюю встречу с ними я узнал, что Володя стал тренером, а Николай один раз был даже чемпионом России по вольной борьбе.
Старшие Мусатовы, я имею в виду родителей, были довольно замкнутыми для соседей людьми. Ни с кем не ссорились, но и ни с кем близко не дружили и не участвовали в застольях. Мой отец за такую нелюдимость считал их кержаками. Тетя Маруся была прекрасным человеком, с доброй душой. Но одевалась она уж очень по-старомодному – в темное сатиновое платье с передником, на голове у нее всегда был глухо обвязанный темный платок, поэтому вид у нее был постоянно болезненным. Умерла она первой. Дядя Сережа работал каким-то кладовщиком на элеваторе. Своими не совсем понятными пристрастиями он отожествлял гоголевского Плюшкина – постоянно ездил с тележкой по всевозможным свалкам, собирал разный хлам и тащил домой. В хозяйстве он его не использовал, поэтому горы этого мусора все росли и росли во дворе Мусатовых. Когда он умер, старшие ребята после похорон решили очистить двор от мусора. Вывезено было шесть или семь полных машин собранного покойником в разное время хлама.
В мой круг близкого общения входили Валя и Женька. Таня по возрасту была ближе к моему младшему брату Алеше. После смерти родителей дом достался Валентине. Она окончила курсы медицинских сестер и постоянно работала в Щучинской районной больнице. Последний раз мы с ней встретились в 2003 году именно там. После происшедшей со мной на Щучьем озере катастрофы, виновником которой вместе со мной был мой старший племянник Сергей, меня, с переломанной рукой, доставили именно туда. Время уже было вечернее, да и день был праздничный (щучане отмечали День молодежи), поэтому в больнице почти никого не было. После того как еле найденный моими ребятами пьяненький казах-хирург заштопал раны моих открытых переломов, меня отвезли на каталке в приемное отделение и положили на какой-то топчан, покрытый серой, протертой до дыр простыней.
Среди ночи, когда я отошел от наркоза, меня страшно стала мучить изжога. Наверное, из-за потери крови. Я стал подавать звуки, чтобы подозвать к себе кого-нибудь из обслуживающего персонала. Прошло довольно длительное время пока мне удалось привлечь внимание дежурной медсестры. Свет в приемном покое горел только дежурный, так что черты ее лица были слегка размыты. Когда у меня возникала изжога, я ее всегда гасил таблетками «эссенциале форте». Поэтому моей просьбой к медсестре было принести такие таблетки. Медсестра что-то хмыкнула про себя, потом, подойдя ближе и присмотревшись ко мне, вдруг вскрикнула: «Сашка! Это ты, что ли?».
Да, эта уже довольно немолодая женщина, была член нашей уличной команды Валя Мусатова. Ответ на мою просьбу у нее был простой:
– В нашей больнице мы уже давно названия таких лекарств забыли. Больные, как правило, сами обеспечивают себя лекарствами.
– А простая питьевая сода у вас найдется?
– Такое лекарство у нас всегда есть.
– Ну, тогда неси его поскорее.
Валентина принесла мне наполненную наполовину литровую банку соды, столовую ложку и налила из-под крана стакан воды. Я съел ложку соды и запил ее водой. После того, как жжение внутри меня притихло, я всетаки, несмотря на боли, задал ей несколько вопросов про житье-бытье. Из ее краткого рассказа я понял, что семейная жизнь у нее не сложилась. Она рано разошлась и двоих детей вырастила сама. Дети уже имеют свои семьи. В настоящее время живет она одна в старом родительском доме. Надо отдать ей должное – на свою судьбу не жаловалась.
По поводу своих братьев и сестры она рассказала следующее. У ее младшей сестры, Татьяны, есть все – муж, дети, свой дом. А Евгений, в детстве мы все его звали Джекой, после окончания школы уехал в Омск, там и живет в настоящее время. Чем он занимается, она толком мне так и не объяснила. Старшие ее братья в Челябинской области. Владимира уже похоронили.
Далее, по нашей стороне, стоял небольшой аккуратный деревянный домик семьи Алексея и Матрены Исаковых. Мои родители с этой семьей были более дружны, чем с другими соседями. Я бы даже сказал, что общались, как родственники. Дело в том, что они, то ли до войны, то ли после войны жили по соседству в Жолымбете. У них было трое детей. Двое довоенных – Слава, одногодок моего старшего брата Анатолия, и на два года младше его Роза. Послевоенным был мой ровесник Юрка. Разница у нас была в три дня – я родился 1 сентября, а он 3 сентября. Но он постоянно доказывал мне свой приоритет, потому что его день рождения приходился на День победы над Японией.
В семье Исаковых была большая проблема – дядя Леша пил. Не то чтобы просто пьянствовал, как делали тогда почти все мужики, побывавшие на фронте, а пил запойно, долго и втихую. Когда он уходил в очередной запой, то выносил из дома и пропивал все, что попадало ему под руку. Поэтому в этот период все остальные члены семьи выносили из дома и отдавали на сохранность соседям, чаще всего нашей семье, все имеющие хотя бы маленькую ценность вещи. В то время все жили очень бедно, выходные вещи и взрослых, и детей, как правило, были в единственном экземпляре. На их покупку деньги собирались годами. Да и купить их при тогдашнем дефиците было большой проблемой. В основном вещи покупались с рук на базаре, и часто были уже не новыми. Как сейчас помню, тетя Мотя привела с рынка не новый, но в хорошем состоянии велосипед. Целый вечер перед жителями нашей улицы демонстрировали свою езду сияющие от счастья и достоинства Слава и Роза. И даже Юрке дали прокатиться «под рамой» – для езды на «сидушке» у него не хватало роста. Но через неделю этот велосипед был подло угнан из дому их отцом и пропит.
Старшие, Слава и Роза, были очень дружны с моими старшими, Аллой и Толей. Вместе тусовались, бегали на танцы в клуб железнодорожников. Слава, наш Толя и еще один такой же парень, живший на нашей улице, Шура Сергиенко, после окончания семилетки вместе пошли учиться в училище механизации. После службы в армии дружба Славы и Толи не ослабла – они вместе пошли учиться в техникум.
Роза довольно рано вышла замуж. Муж у нее был из старожилов города – «щучинской мордвы» и намного, как мне тогда казалось, старше ее, так как выглядел он довольно старообразно. Работал он водителем в автотранспортном предприятии. Жили они с родителями мужа в большом деревянном доме в центральной части города. Как сложилась ее дальнейшая судьба, сказать трудно, но дети были. Ходили и слухи, что у ее мужа, как и у многих в то время, была проблема с алкоголем.
Слава, после службы в армии, вместе с моим старшим братом Анатолием окончил Боровской сельскохозяйственный техникум и работал водителем в транспортном предприятии. Женился он, когда ему было уже за тридцать. Не могу точно сказать, были ли у него дети. Но и он не избежал той же проблемы, как и у его зятя, – алкоголизма. Моим «друганом» из этой семьи был их младший сын Юрка. На нашей улице мы с ним были единственные явные ровесники. Поэтому у нас были и дружба, и соперничество, и даже конкуренция за право руководить младшими. Внешне мы чем-то были даже похожи. Оба небольшого росточка, коренастые и очень шустрые.
В этой связи хотелось бы еще отметить следующее. Дети жителей нашей улицы, родившиеся до войны, в основной своей массе были крупными, рослыми. Очень отчетливо это было видно на примере семьи Исаковых. И Слава, и Роза ростом были под метр восемьдесят, если не выше, хотя их родителей никак нельзя было назвать высокими. А мы, послевоенная поросль (1945–1947 годов рождения) в основной массе были мелкими, хотя нас было и много. В школе наши классы были самими переполненными. Наверное, стрессы, недоедание наших родителей в военный период, в конце концов аукнулись на нашем поколении. Да и в нашей семье и отец, и братья ростом были метр семьдесят, а я от них отстал на целых шесть сантиметров. В ранней юности я немного комплексовал по этому поводу, но когда увидел, что данная ситуация проблем с противоположным полом у меня практически не вызывает, потому что мои сверстницы в основной своей массе были такими же коротышками, то успокоился.
В последний раз Юрку Исакова я видел, когда он привозил в мое предприятие на ремонт электродвигатели. Когда он зашел ко мне в кабинет, то я его не узнал. Передо мной был маленький, на полголовы ниже меня, толстый, лысый, седой человек. Хотя ему в то время было около сорока лет, но выглядел он намного старше. Чувствовалось, что у нее не все в порядке со здоровьем. Мы с ним минут пятнадцать пообщались. Юрка рассказал мне, что работает заведующим машинно-тракторной мастерской в одном из совхозов, кажется, Рузаевского района, в который попал по распределению после окончания техникума. Женился на местной девушке, да так там и остался.
Я дал команду, чтобы ему выдали вне очереди взамен готовые отремонтированные двигатели и дополнительно загрузили его автомашину любыми дефицитными электроматериалами, какие он попросит. Пригласил его к себе домой на обед, но отказался, сославшись на то, что еще не был у матери. Распрощались мы с ним тепло, так что уехал он от меня очень довольным. Но через полгода до меня дошло известие, что через три месяца после нашей встречи с ним случился обширнейший инфаркт и он умер.
В следующем доме от Исаковых, по нашей стороне жила молодая мордовская семья Махаловых. Выходцы они были из села Дорофеевка. Хотя их дом располагался в середине нашего переулка, но построен он был года на два позже нашего дома. В то время пошла волна уплотнения частной жилой застройки – часть площади земельных участков между соседними домами вырезалась, а затем отдавалась под застройку нового дома.
Семья Махаловых была тихая и спокойная. У них был единственный сын Вовка. Родители его были очень высокого роста, поэтому и он рос немаленьким. Так что, хотя он и был моложе на два года моего младшего брата Алеши, но в играх ребят его возраста практически участвовал на равных. К своему стыду, имен старших Махаловых я вспомнить не смог. Знаю только, что Махалов являлся родным братом тети Зины Юртаевой, матери члена нашей команды Генки, о которых я расскажу чуть позже.
Далее, по той же нашей стороне, стоял деревянный небольшой домик, который время от времени перепродавался. То ли в 1955-ом, то ли в 1956-ом году его купила бездетная украинская семья. Хозяин дома был уже довольно пожилой, очень худой человек с болезненным лицом. Нигде не работал и практически не появлялся на улице. Через месяц после заселения он весь двор оборудовал стеллажами с кроличьими клетками. Его жена, наоборот, оказалась женщиной общительной и очень словоохотливой. Правда, у нее был один недостаток, который несколько связывал ее в общении с соседями, – она совершенно не могла изъясняться по-русски, а говорила только на «украиньской мове». Все лето с утра до вечера на тележке она возила траву в мешках с территории лесопитомника для корма кроликов. Там ей директор лесопитомника Жалонко разрешил заниматься неоплачиваемой добровольной прополкой молодых саженцев от сорняков. Часто останавливалась около нашего дома, чтобы поговорить с моим отцом на «мове». Жили они довольно тихо, ни с кем не контактировали, ни к кому в гости не ходили и никого к себе в дом не приглашали. Мне кажется, что никто из соседей даже не знал их фамилии и имен. У них были просто уличные прозвища – «хохол» и «хохлушка». Отец, когда как-то дома зашел о них разговор, шутливо высказал предположение, что «хохол» «скрытый бандеровец».
Следом за ними стояли две землянки. Первая из них постоянно перепродавалась. Одно время в ней жили ингуши, потом цыгане, потом какие-то приезжие молдаване. Затем эту землянку купили родители для молодоженов. Молодожены прожили в ней только зиму и тоже куда-то съехали. Землянка потихоньку ветшала, обмазка с ее стен обваливалась, вид ее становился очень неприглядный. Когда я учился уже на последнем курсе техникума, эту почти развалившуюся землянку купили немецкие переселенцы из какого-то села нашего района. Эти развалины снесли, и на ее месте очень быстро построили большой красивый дом. Но новые обитатели этого дома меня уже мало интересовали.
Во второй землянке жила «разведенка» тетя Зина Юртаева с двумя сыновьями Генкой и Ленькой. Генка, хоть и был моложе меня и Юрки Исакова на три года, был мальчишкой рослым и входил в нашу возрастную группу. Ленька был на три года младше своего брата и по возрасту входил в детскую команду, где был и мой младший брат Алеша.
Когда мы стали жить в своем доме, семья Юртаевых была еще полной. Выходцами они были из расположенного в пятнадцати километрах от города мордовского села Дорофеевка. Переселились они в Щучинск где-то в самом начале 50-х годов. Денег им хватило только на строительство маленькой землянки. Глава семьи Юртаевых (кажется, звали его Павел) работал в строительной организации плотником. Он был намного старше своей жены и, к тому же, «разженей». После войны для молодых сельских девчонок выйти замуж было пределом мечтаний. Но сверстники их почти все погибли на фронте, так что выбирать особо не приходилось. Когда молодая девчонка выходила замуж за мужчину более старшего по возрасту, ее всегда успокаивали шуткой: «Тебе ведь не варить его придется». Но вскоре они разошлись. Причиной развода стало то же, что и в подобных им семьях, – пьянство и рукоприкладство мужа. Генка, плача, мне как-то показывал на спине следы отцовского «воспитания».
После развода родственники Зинаиды, в первую очередь ее брат Махалов, очень быстро построили ей рядом с землянкой небольшой, но очень добротный домик на две комнаты. Попыталась она устроить и свою личную жизнь. Взяла на квартиру примерно ее же возраста мужичка, приехавшего на строительство элеватора. Через некоторое время они стали часто появляться на людях вместе. Зинаиду стало не узнать. Раньше мы в ней видели старушечьего вида женщину, всегда одетую летом в серое платье бесформенного типа и повязанную наглухо неопределенного цвета ситцевым платком, а зимой – в старую ватную телогрейку черного цвета. Теперь перед нами оказалась высокая, стройная, с великолепной фигурой красивая женщина. Особенно поражали ее волосы – иссиня-черные, с толстой длиной косой. Как-то моя мать, когда Зинаида со своим ухажером проходила мимо и приветливо поздоровалась, тихо, участливо бросила ей вслед: «Как расцвела. Пошли, Боже, этой женщине бабьего счастья».
Но «бабьего счастья» в полной мере Зинаиде так испытать и не пришлось. В один из вечеров в дом ввалился с родственниками или с дружками пьяный Павел, и они избили ухажера Зинаиды до полусмерти. На следующий день тот срочно уехал из Щучинска, а Зинаида, на этот раз уже навсегда, обрядилась в свои монашеские одежды.
За домиком Юртаевых, на углу переулка, за глухим высоким деревянным забором, стоял дом, в котором жила немецкая семья Шермахеров – мать, тетя Марта, и трое ее детей. Двое детей были довоенные – взрослая девушка лет двадцати (звали ее то ли Герта, то ли Линда) и сын Виктор (он был ровесником моему старшему брату Анатолию). Самый младший Вовка (он был 1943 года рождения) был в нашей команде. По натуре он был добродушным малым, физически очень крепким, но несколько заторможенным в мышлении. Учеба ему давалась с большим трудом. По этой причине он по два, а то и три года сидел в одном классе. Даже один год учился со мной в одном, кажется, третьем классе. Я как другу помогал ему делать домашние задания, но его это не спасло, и он в очередной раз остался на второй, а точнее, на третий год. Директор нашей школы Пономарев убедил тетю Марту забрать его из школы и определить в ПТУ, потому что он уже в то время выглядел как взрослый парень, что смотрелось резким контрастом на фоне нас – малявок. Вскорости после того как Вовка бесславно закончил учебу в школе, они продали свой дом ингушской семье, кажется, Хамхоевых и купили себе дом в поселке Щебзавода № 2. В простонародье этот поселок назывался «Западным Берлином», так как его население составляли в основном, немецкие семьи. В дальнейшем с Вовкой я встретился, когда уже работал в райсельхозуправлении. Он был водителем в СпецПМК «Сельхозстроймонтаж», передовиком, его фотография висела на Доске Почета предприятия. Передо мной стоял почти двухметрового роста и весом примерно в полтора центнера мужик, но на лице у него была та же добродушная улыбка нашего детского дружка Вовки Шермахера. Жизнью своей он был очень доволен – женат, двое детей, в семье неплохой, по тем временам, достаток.
Чуть вглубь переулка, сразу за домом Шермахеров, стояла землянка. Я сейчас уже не помню, кто в ней жил. В 1956 году или в 1957 году эту землянку купил попавший под первую волну хрущевского сокращения армии, затем приехавший работать на целину капитан Навдуш. Меньше чем за год на месте землянки стоял уже добротный дом. Сын его Вовка тоже оказался в нашей команде. Правда, прожила семья Навдуша в Щучинске недолго, где-то около четырех лет, и уехала на какую-то новую стройку. Более подробно об этом человеке я написал в главе «Сестра».
По другой стороне улицы ближайшим к нам был стоящий напротив дом Николая и Анны Кириенко. Очень хорошие были соседи. У моих родителей с ними никогда не было никаких конфликтов. У них было четверо детей – Витька, Галка, Танька и Колька. Двое старших по возрасту были ближе ко мне – Витька на год и Галка на два года младше меня. Танька была на год младше моего брата Лешки, а Колька был совсем ребенком.
Дядя Коля Кириенко всю войну пробыл в плену. Многие побывавшие в плену затем оказывались и в наших лагерях. Но он этой участи избежал, так как командир части, освободившей их из плена, сразу зачислил всех в действующий состав своих подразделений. Демобилизовался Николай Кириенко с чистыми документами фронтовика. Поэтому об этой, пленной, части его биографии знали очень немногие. Про войну он никогда сам речи не вел, да и не поддерживал разговоров с другими собеседниками. Но как-то я, будучи почти выпускником техникума, все-таки вывел его на разговор про плен. Не знаю почему, но ко мне он относился очень уважительно и, наверное, поэтому все-таки раскрылся. Конечно, многого он мне не рассказал. Но информация для меня оказалась, по тому времени, очень интересной. Попал он в плен в первые дни войны. Немцы тогда еще находились в эйфории «блицкрига», им нужна была дармовая рабочая сила, поэтому к военнопленным относились довольно лояльно. Их загрузили в вагоны и отправили в Германию. Он считал, что ему очень повезло, так как сразу попал в качестве батрака в богатую немецкую крестьянскую семью. В гитлеровской Германии был установлен порядок – крестьянской семье взамен ее члена, призванного в армию, в обязательном порядке выделяли работников из числа военнопленных. В то время он был двадцатилетним парнем, по натуре очень покладистым и работящим, поэтому, вероятно, такой работник вполне устраивал немецкого хозяина, и он в этой семье прожил практически всю войну до самого освобождения. Своего немецкого хозяина дядя Коля плохим словом никогда не вспоминал. Говорил, что работой не «гнобили», кормили тем, что ела и хозяйская семья. Кроме того, хозяин отбил несколько попыток местной комендатуры отправить его концлагерь.
Работал дядя Коля машинистом дизельной насосной станции, которая располагалась на озере Щучье и поднимала воду в резервуар, который стоял на малой сопке (первой со стороны казачьего района города). Оттуда вода по трубам текла в район железной дороги. На дежурство он ездил на своем мотоцикле с коляской, кажется, это был ИЖ-49, и иногда брал своего старшего сына Витьку и меня с собой на целый день. Удовольствие от таких поездок было просто необыкновенное. Мы целый день купались, заплывали загорать на громадные валуны, торчащие среди воды на солидной глубине. Единственное, что нам запрещал дядя Коля, – купаться вблизи заборных труб насосной, чтобы нас не затянуло на глубину водопотоком.
Сказать, что мои родители очень близко дружили с Николаем и Анной Кириенко, я не могу. Не помню, чтобы они проводили с ними и совместные застолья. Но Анна Кириенко, мы, ребятня, звали ее тетя Нюра, как отмечала моя мать, была хорошей соседкой, никогда ни с кем не ссорилась, от нее никогда не исходили уличные сплетни. Ко мне относилась очень приветливо. Правда, вспоминается один случай, когда она на меня очень здорово «наехала». Родители мои были где-то в отъезде, и мне пришлось устроить разборку с моим младшим братом по поводу его неудовлетворительной учебы в школе. Лешка уж так слезно и громко (на всю улицу) обещал мне больше двоек не получать, что она прибежала к нам домой разбираться со мной по якобы жесткому, по ее мнению, воспитательному процессу, проводимому мной с моим младшим братом.
Рядом с ними жила семья Петра и Анны Суртаевых. Возраст их в то время был уже довольно солидный. У них было четверо сыновей. Старшие сыновья уже имели свои семьи и жили отдельно в других городах. Самого старшего сына, кажется, звали Алексей, я видел только раз, когда он приезжал в отпуск к родителям. Двоих, Николая и Сергея, я знал хорошо. Сергея я помню приезжавшего на побывку в форме моряка. По окончании службы он женился на местной девушке и остался жить, где и служил. Николай женился рано (сразу после окончания школы), потом служил в армии. Сноха с маленькой дочерью жила в доме родителей мужа. После службы в армии Николай работал в предприятии водоснабжения на железной дороге, заочно окончил институт, построил на родительском участке себе хороший дом с баней. Именно после помывки в этой бане я отвез свою жену Галину в роддом. Чуть позже его перевели в Кокчетав начальником предприятия водоснабжения отделения железной дороги.
О дяде Пете и тете Нюре Суртаевых я рассказал в главе «Сестра». Единственно, что хотел бы добавить, так это то, что если дядя Петя был мужиком с душой нараспашку, то тетя Нюра бы женщиной очень замкнутой, даже в некоторой степени высокомерной. Ни с кем из соседок приятельских отношений не поддерживала. В семье она была не просто лидером, а скорее диктатором. Их младший сын Валерка, с которым я был в близких приятельских отношениях, страшно ее боялся. Валерка был 1942 года рождения, то есть на четыре года старше меня, но так как его сверстников на нашей улице практически не было, то наиболее близким уличным дружком для себя он выбрал меня. Я довольно часто бывал у них дома – тетя Нюра разрешала ему приводить меня в дом, хотя на вход в их дом других пацанов с нашей улицы был наложен запрет. Дом Суртаевых, по меркам того времени, был «крепкий» – большой деревянный. В доме было две очень больших комнаты, так что порезвиться нам места хватало. Но когда в это время в доме находилась тетя Нюра, мы вели себя тише воды, ниже травы. Только одна ее фраза: «Ну-ка прекратили пакостить», сразу охлаждала наш пыл. Слово «пакостить» она произносила по-кержацки с буквой «о» в первом слоге и с ударением на последнюю гласную. Все стены комнат у них были завешены фотографиями. Фотографии формировались в больших рамах по определенным временным периодам. Даже сейчас у меня перед глазами стоят два рамника, заполненные пожелтевшими, немного выцветшими, но не помятыми и очень чистыми фотографиями старомодно, но очень прилично одетых людей. Валерка объяснил мне, что на фотографиях его прадедушки и прабабушки и снимки сделаны еще в XIX веке.
Учился Валерка в школе № 160, но после того как в Копае построили новую школу № 31, учиться, как и все ребята и девчата нашей улицы, стал в ней. Пошел в школу он поздно, кажется, в восемь или девять лет. Я думаю так, что в школе он учился на два класса старше меня. Учился он неважно, особенно тяжело ему давалась математика. Но парнем он был спортивным. Занимался легкой атлетикой, был чемпионом школы по прыжкам в высоту. Наверное, это увлечение физкультурой определило его дальнейшую жизнь. После окончания десяти классов он не стал поступать в институт, а пошел учиться в Щучинское педучилище на физкультурное отделение. После его окончания работал учителем физкультуры в той же школе, которую окончил. После службы в армии стал специализироваться как преподаватель допризывной военной подготовки. Женился на девушке, с которой вместе учился в педучилище. Она также работала в этой школе. Родом она была из села Райгородок нашего района. Жили они вместе с матерью Валерки. Дядя Петя к тому времени уже умер. Родили девочку. Но семейная жизнь не задалась, то ли по причине скверного характера его матери, то ли его самого. Знаю только, со слов моей жены Галины, что женский коллектив учителей школы, где они на тот момент оба работали, в их разводе жестко осуждал только его. После этого у него было несколько ни к чему не обязывающих, как сегодня говорят, «гражданских» браков, но нормальной семьи он больше не создал. Жил Валерка в отцовском доме бобылем. После распада Советского Союза уехал на Алтай к родственникам. Говорят, что вскоре после переезда умер.
Далее от дома Суртаевых стоял небольшой бревенчатый домик. В нем жила пожилая пара Жуковых. Дети и внуки приезжали к ним довольно редко. Мой отец поддерживал приятельские отношения с Жуковым, поэтому они несколько раз зазывали меня к себе в дом и всегда чем-нибудь угощали. Но эта семья мне больше запомнилась другим случаем. У Жуковых в конце огорода стоял очень аккуратный, легкий, сделанный из фанеры, да еще к тому же и покрашенный, туалет или, как тогда говорили, уборная. Бегая по ручью, который тек с гор на тыльной стороне огородов, мы стали замечать, что время от времени жуковская уборная меняла место своего расположения. Оказывается, как я потом узнал, Жуков не копал большой выгребной ямы, а делал небольшой приямок и, по мере его наполнения, копал новый и на его место переносил уборную. На месте старого приямка потом появлялись какие-нибудь садовые растения – куст или деревцо. Своими наблюдениями я поделился со старшим братом Толей.
И вот как-то старшие ребята нашей улицы, мой брат Толя, Славка Исаков и Шурка Сергиенко, возвратившись уже после полуночи с танцев, были в поисках ночных приключений. Было большое желание что-нибудь «учудить». У кого тогда возникла эта идея, трудно сказать, но воплощение она получила. Эти хохмачи перетащили жуковскую уборную с огорода на крыльцо дома Жуковых и поставили ее перед входной дверью.
Старику Жукову не надо было по нужде идти в огород – открыв входную дверь дома, он сразу оказывался в уборной. Не знаю, как у других родителей, но у моего отца смеха такая «шутка» не вызвала. За эту выходку мой старший брат Толя неделю не мог спать на спине после отцовской экзекуции. Кроме того, отец заставил его идти к Жукову и просить прощения. А Славке и Шурке сказал, что, не дай бог, после следующей подобной выходки сам пойдет к родителям и будет требовать для них самого жестокого наказания.
За домом Жуковых стояла низенькая землянка на два хозяина. С одной стороны землянки жила татарка тетя Соня Фахрутдинова с двумя детьми – Раей и Рашидом. Муж у нее то ли погиб на фронте, то ли умер после войны. Кстати сказать, тогда довольно частым явлением была ранняя смерть мужчин, прошедших войну. Умирали от старых ран, от болезней, которые преследовали ослабевший организм. Жили Фахрутдиновы очень бедно. В их половине дома было две маленьких комнатки, практически совершенно пустых. В первой был столик и несколько табуреток, на стене висела полка для посуды, а в углу на полу стоял примус и большой медный кувшин для воды. Во второй комнате из мебели был только сундук и круглый казахский стол на маленьких ножках. На стене было несколько фотографий. Дощатого пола в комнатах не было, его еженедельно мазали глиной с конским навозом и устилали домоткаными половиками. Но тетя Соня была очень радушным человеком. Когда мы, ребятня, заходили к ним в дом, то обязательно получали от нее по кусочку курта – засушенного конского или овечьего творога. Он был очень кислым, что сводило рот, но мы его с удовольствием сосали – в то время курт исполнял функции конфет.
Рая была довоенного рождения и, естественно, была в компании наших старших братьев и сестер. В нашей команде был Рашид. Звали мы его все на русский манер – Шуркой. Он был на два года старше меня и Юрки Исакова, но моложе на два года Валерки Суртаева. Как и Валерка Суртаев, занимался спортом, но для себя. Для своих лет был дольно хорошо накачанным парнем. Но по складу своего гордого и довольно жесткого характера именно он, а не Валерка, был нашим лидером. Причем лидерство он не заслужил, а захватил. Если нам приходилось драться с другой компанией ребят, а это иногда приходилось делать, он никого не боялся, был решительным, бил жестоко, никого не щадил. За трусость бил даже своих. Поэтому в драке у нас была суровая дисциплина – никто даже не пытался ее нарушить. Если Шурка говорил, что сегодня будем драться, мы без ропота собирались и шли драться.
Но именно из-за такого жестокого своего характера симпатии он никакой у нас не вызывал, более того, в общем-то, всех нас тяготил. Мы старались как можно меньше с ним общаться. Был он какой-то закрытый, весь колючий. Близко к себе никого не подпускал, никому ни в чем не уступал. В обращении со взрослыми был грубым, на контакт не шел. В школе учился плохо, по два года сидел в нескольких классах, а в 15 лет вообще бросил учиться. Тетя Соня устроила его, кажется, в локомотивное депо, учеником газоэлектросварщика, и он уже практически перестал принимать участие в наших тусовках. Сейчас, вспоминая его, я думаю, что, скорее всего, на манере его поведения, сказывалось то, что рос он без отца и в глубокой бедности. Эта злость ко всему окружающему его миру была своего рода защитным панцирем.
Наши дороги разошлись, когда я поступил в техникум. У меня появились новые друзья среди моих однокашников по техникуму, и я уже не стал так часто общаться старой компанией. Через некоторое время семья Фахрутдиновых продала свою половину землянки и купила маленький домик в другом районе.
Встретил я Шурку уже лет через пятнадцать. Передо мной оказался добродушный, приятный, словоохотливый человек. Рассказал мне, что у него очень хорошая жена и двое детей. Имеет трехкомнатную благоустроенную квартиру, работает сварщиком, получает приличную зарплату, стоит в очереди на покупку автомобиля. Чувствовалось, что Шурка искренне доволен своей жизнью и, наверное, даже по-своему счастлив. Я поинтересовался у него, где сейчас тетя Соня и Рая. Он сказал, что тетя Соня умерла десять лет назад, а Рая очень удачно вышла замуж и живет в Кокчетаве.
Другая половина землянки принадлежала казахской семье Дарбаевых. Сам Дарбаев был очень пожилой человек – аксакал. Он редко выходил на улицу – говорили, что болеет туберкулезом. Жена у него была лет на двадцать его моложе. Имен ни его, ни ее я сейчас не помню. У них было четверо детей. Довоенная Сара, потом Серикпай и две маленьких девочки Айман и Шолпан. Жили они на нашей улице недолго, после смерти отца семья переехала к родственникам в Кокчетав.
Самым интересным экземпляром в этой семье был Серикпай, или, как мы его звали, Серик. Он был года на три моложе меня. У него было страшно изуродованное лицо. Громадный рваный шрам шел от уха по щеке, носу и заканчивался на лбу. Говорили, что трех-четырехлетним мальчишкой он подошел к годовалому бычку погладить его, а тот боднул его рогом и порвал все лицо. Естественно, в ауле никто не смог оказать мальчонке необходимую медицинскую помощь, и его лицо на всю жизнь сохранило эту страшную метку.
С Сериком мне довелось встретиться в начале 90-х годов. Я тогда работал уже председателем Щучинского горисполкома. По местной связи мне позвонила секретарь:
– Александр Максимович, в приемную пришел какой-то Дарбаев, заявил, что является вашим другом детства и просит, чтобы вы его срочно приняли.
– Хорошо, пусть заходит.
В кабинет зашел человек, и по большому шраму на щеке я сразу его узнал. Это был Серик.
Я тогда торопился на какое-то очередное совещание, поэтому наша беседа с ним составила всего минут десять. В основном он рассказывал о себе, а я слушал. Он окончил медицинский институт и работал врачом-стоматологом в областной больнице. В Щучинск приезжал к родственникам и решил посетить меня. Есть ли у него семья, он мне не рассказывал, а у меня просто не было времени его об этом расспрашивать. Чувствовалось, что зашел он ко мне для показа своим щучинским родственникам, что у него в их городе есть друзья с высоким общественным положением. Для казахов это очень важно.
В глубине следующего земельного участка также стояла низенькая землянка. Жила там вдова погибшего солдата тетя Шура Сергиенко. Сын ее, тоже Шурка, так же, как и Славка Исаков, был лучшим другом моего старшего брата Анатолия. Они вместе учились в школе механизации, а затем в автошколе. Постоянно ходили вместе. В школе механизации их троицу так и звали – «три танкиста». После службы в армии Шурка в Щучинск не вернулся. Позднее к нему ухала и тетя Шура.
За участком Сергиенко кем-то, я сейчас не помню, очень быстро был построен большой шлаколитой дом под железной крышей. Смотрелся он очень добротно и красиво. В 1954 году этот дом купила наша близкая родственница, переехавшая из Жолымбета, Нина Петровна Треносова. Она была бывшей женой младшего брата моей матери Ильи.
Мой дядя, Илья Иванович Треносов, был 1925 года рождения и в 1943 году должен был быть призван в действующую армию. Но у него врачи нашли какой-то «физический дефект», и он получил «белый билет». Говорили, что этот «дефект» обошелся его отцу, Ивану Треносову, в кругленькую сумму. Сейчас я очень хорошо понимаю своего деда. Получив в самом начале войны похоронку на своего среднего сына Сергея, он сделал все, чтобы сохранить жизнь своему младшему. А младшие, как это всегда водится, у родителей самые любимые. Кстати, информации о том, как погиб и где похоронен Сергей, мы нигде, сколько ни пытались, получить не смогли.
Илья, после окончания торгово-кооперативного техникума, работал товароведом в райпотребсоюзе. Там он познакомился со своей сверстницей, молодой, кстати, очень красивой девушкой Ниной, которая работала здесь же продавцом. Родом семья Нины была из западного Казахстана, кажется, с Усть-Каменогорска. Создали семью. В 1948 году родилась у них девочка Галя.
Как-то в магазин, где работала Нина, внезапно нагрянули ревизоры. У нее была обнаружена недостача. Молодая женщина получила небольшой, но реальный срок. Из колонии ее освободили перед самыми родами. В 1952 году родилась вторая девочка Ольга.
За время, когда Нина находилась в колонии, Илья нашел себе новую пассию. Это была также молодая девушка Надежда Щеголева. Илья подал на развод, когда Нина отбывала срок. В их разводе мать очень осуждала своего брата, и некоторое время они даже не общались. Нина чувствовала особое отношение своей бывшей золовки к себе, и поэтому старалась быть к ней поближе. Она и переехала в Щучинск и поселилась рядом с нами. К тому времени у нее уже появился новый молодой муж, моложе ее на пять лет. Звали его Касин Борис Васильевич. Был человеком он очень капризным – то уезжал от нее, то возвращался, и только когда у них родился общий сын Сергей, немного успокоился.
Старшая ее дочь, моя двоюродная сестра Галка, стала моим «хвостиком». Если мы куда-нибудь с ребятами настраивались идти, тут же, словно черт из табакерки, откуда-то появлялась она и ревом добивалась, чтобы я ее брал с собой. Иногда даже ребята старались спрятать меня от нее. Ее младшая сестра Ольга не отходила от моего младшего брата Алеши. Обе мои сестры окончили Целиноградский медицинский институт. Об их дальнейшей судьбе я вкратце рассказал в главе «Треносовы».
На самом углу перекрестка стоял в наибольшей степени таинственный для нас дом. Обнесен он был высоким плотным забором. Внутри, по периметру забора бегала на проволоке собака, и при приближении кого-нибудь к забору начинала истошно лаять. Говорили, что внутри был сад, в котором росло все, даже экзотические заморские фрукты – ананасы. Таинственным он был для нас, прежде всего, тем, что мы не могли попасть вовнутрь усадьбы и хотя бы одним глазком посмотреть на этот сад. Жила там мордовская семья Кураевых. Вели они себя очень затворнически. Даже с ближайшими соседями мало общались. Несмотря на то, что их дети тусовались в нашей компании, чужим детям вход на территорию их двора был строго запрещен. Глава семьи работал где-то на железной дороге и постоянно проезжал мимо нашего дома на своем мотоцикле. Здоровался с моими родителями кивком. На этом все общение заканчивалось. Жена его не работала, и ее почти никто на улице не видел. О дальнейшей судьбе чад и домочадцев этой семьи мне ничего не известно.
Где-то в году 1956-м или 1957-м земельные участки домов, которые стояли на границе улиц и вдоль переулков стали урезать, чтобы обеспечить новые участки для застройки частных жилых домов. Так вдоль дороги у нас за домом появились новые соседи – семья Титенко, а за домом Кириенко – Черняевы.
У Черняевых было двое ребят – Колька и Санька. Старший, Колька, был почти одного со мной возраста (моложе меня на год) и мы с ним, по соседству, неплохо дружили. Санька был совсем маленьким. Запомнился мне он тем, что, бегая за нами, постоянно таскал с собой свой маленький трехколесный велосипед, который любовно называл «это мой солопет».
Глава семьи, Филипп Черняев, работал завхозом в ОРСе. Дома он бывал довольно редко. Никто не знал, где и как он зарабатывал деньги, но чувствовалось, что они у него были и немалые. Дом им был построен довольно быстро. Если в то время жители свои дома строили, в основном, силами семьи и им изредка помогали только родственники, то Черняевым дом построили наемные рабочие. Дом был построен в рекордно короткий срок – всего за одно лето. Хотя каркас дома был сделан просто – вылит из шлака, но наружная и внутренняя отделка были выполнены с таким высоким качеством, что все соседи только завидовали.
Черняевы, пока строился дом, жили рядом с ним в сколоченной из досок маленькой времянке. Колька с нетерпением ждал завершения строительства дома. Почти ежедневно он заводил меня в него и показывал свою (отдельную!) с Санькой комнату. У нас на улице ни у кого из ребят не было отдельной комнаты. Меня поражали белые, не грубо мазаные, а идеально ровные оштукатуренные стены, большие двухрамные, с форточками, окна, филенчатые двери и многое другое, о чем я до этого даже не имел представления. Правда, мой отец, оценивая темпы строительства дома Черняевых, только качал головой. После первого посещения еще не достроенного до конца дома Черняевых, когда я поделился с отцом своими впечатлениями о том, как быстро и красиво его строят, он сказал:
– Сынок, запомни мои слова. Каркас дома перед штукатуркой не был высушен как следует. Дом будет сырой, и стены постоянно будут покрыты плесенью. Поэтому эта «красота» быстро исчезнет. Да и сам дом долго не простоит – развалится.
– Почему?
– Основная причина кроется в следующем. Дом поставлен около воды (мимо их дома бежал с гор ручей, который весной разливался довольно широко) и на очень слабом фундаменте. Хорошей гидроизоляции между фундаментом и стенами также не сделано. Фундамент будет постоянно сырой, поэтому от него будут постоянно сырыми стены и все это приведет к очень быстрому их разрушению.
Хотя мне в то время было всего лишь лет десять, урок этот – как не надо строить – я запомнил на всю жизнь.
Жена Филиппа Черняева, мать Кольки и Саньки, была лет на десять его моложе. Кажется, ее звали Анной, точно не помню, нигде не работала. Женщина она была веселого нрава и очень приветливая, во всяком случае, по отношению ко мне. Когда я приходил к ним в дом она еще спала. Стол всегда у них был завален остатками еды, немытой посудой. В доме постоянно был страшный беспорядок, создавалось ощущение, что здесь никто и никогда не прибирает. Колька ставил на стол хлеб и молоко – это был их с Санькой завтрак. После братья Черняевы шли на улицу, где проводили целый день. Часто в обед их кормила моя мать.
Но в то же время, если Анна шла в город или к кому-нибудь в гости, ее было не узнать. Нарядам и внешнему косметическому антуражу она всегда уделяла должное внимание.
На почве патологической лени Анны у нее и Филиппа постоянно вспыхивали скандалы. Филипп все чаще и чаще стал по ночам не приходить домой, и вскорости они разошлись. Филипп ушел из семьи, а она еще с полгода жила с ребятами в этом доме. Потом они дом продали и куда-то съехали. На этом мои контакты с Колькой Черняевым оборвались.
Уже работая в райсельхозуправлении, я случайно встретился с Филиппом и спросил его о ребятах. Он рассказал, что они живут с матерью в другом городе, кажется, в Макинске. Оба закончили техникумы и работают. Колька недавно женился. На этом разговор и закончился.
С соседями, которым досталась половина нашего участка, семьей Титенко, нам повезло. За все время соседства у моих родителей с ними не возникало никаких осложнений во взаимоотношениях. Да и с другими соседями мои родители умели устанавливать и сохранять добрые отношения.
Семья Титенко переселилась в Щучинск из села Успено-Юрьевка нашего же района. Дом они поставили тоже очень быстро – привезли готовый бревенчатый сруб, и в течение двух дней уже стоял каркас дома. Еще пару недель ушло на устройство крыши, установку окон и дверей. В постройке дома помогали братья и родственники. В общем, как говорится, не успели оглянуться, как соседи стали жить рядом.
Николай Савельевич Титенко сразу по приезде в Щучинск устроился на работу водителем автобуса в пассажирское автохозяйство, которое находилось в пяти минутах ходьбы от наших домов. Кстати, после армии в это предприятие устроился работать и мой старший брат Анатолий.
Его жена Мария нигде не работала – занималась воспитанием детей и обеспечением уюта в доме. Николай Савельевич всегда был у нее опрятно одет, сытно накормлен. В огороде, а им занималась в основном Мария, всегда был идеальный порядок – грядки все по линеечке, а на них ни одного сорняка. Но человеком она была не особенно общительным. Я не помню, чтобы она с кем-нибудь из соседок поддерживала дружеские отношения. Если у них и случались застолья, то в них принимали участие в основном только близкие родственники из Юрьевки. Справедливости ради надо сказать, мои родители тоже несколько раз были у них в гостях.
Самый яркий атрибут Николая Титенко – это его усы. Роскошные, смоляные, копия – «буденовские». Благодаря своим усам Титенко стал настоящей достопримечательностью Щучинска. В Кокчетаве, куда совершал рейсы его автобус, именно по его усам всегда определяли автобус на Щучинск.
У них было двое детей. Старшая девочка (имени сейчас вспомнить не могу) и года на два младше ее мальчик. Звали его Вовка. Держали их родители, в основном мать, в большой строгости. Участие в наших тусовках они принимали очень редко. Правда, дружбу водить с моим младшим братом Алешей Вовке не запрещалось.
Сам Николай Савельевич Титенко был ровесником старшему сыну моего отца Михаилу. Поэтому к моему отцу относился с большим уважением и, я бы даже сказал, с сыновьим почтением. Был он нормальным добрым человеком, всегда отзывался на просьбы. Очень высоко котировался на работе, постоянно его фотография висела на городской Доске Почета. Уважал его и водительский коллектив. Не чурался он выпить с товарищами рюмку водки после работы.
Кстати, несколько слов насчет товарищеских «посиделок». Напротив автобазы находилась рабочая столовая элеватора, в буфете которой на разлив продавались и пиво, и вино, и иногда даже водка. Днем там обедали водители, которые привозили из совхозов зерно на элеватор, а вечером после работы часто тусовались работяги с ближайших предприятий, в основном, из пассажирского автохозяйства.
В то время люди всегда старались найти работу поближе к дому – и быстрее дойти домой, чтобы что-то сделать по хозяйству, и быстро перекусить, так как на общепитовскую услугу не у всех были деньги. Поэтому жены, если муж долго не приходил с работы, всегда знали, где он находится.
По данному поводу даже гуляла одна байка – то ли быль, то ли анекдот.
«Один водитель, живший в двухэтажном многоквартирном доме элеватора, перебрал свой лимит времени пребывания в столовой – подобралась хорошая компания. Его жена, прекрасно зная, где он находится, командировала за ним сына – мальчика лет семи. Мальчишка подбежал к отцу и стал его дергать за полу пиджака:
– Пап, пап, айда домой. Мамка зовет.
– Отстань. Иди домой и скажи ей, что я сейчас приду.
– Мамка наказала, чтобы ты сейчас шел.
– Я тебе сказал, что скоро пойду. Иди домой.
Но мальчишка не переставал канючить, и над мужиком уже начали посмеиваться собутыльники. Тогда он не выдержал и сунул сыну свой стакан с водкой:
– Пей.
– Не буду.
– Пей, кому я сказал, а не то я тебя сейчас ремнем выпорю.
Мальчишка хлебнул из стакана, закашлялся, на глазах появились слезы, и он решительно поставил стакан на стол:
– Я не буду пить.
– Почему? Что не вкусно?
– Да. Она горькая и противная.
– Так иди и скажи матери, что мы здесь не мед пьем».
Но надо сказать правду – Николая Савельевича Титенко в этом заведении видели крайне редко.
По нашей стороне на углу улицы Зеленой, параллельной нашей улице, тоже в начале 50-х годов, поселилась молодая семья Журавлевых. Выходцами они были из какого-то села нашего района. Его звали Прокоп, а ее Вера. Они довольно быстро построили большой красивый дом. Он особо выделялся на фоне большинства неказистых приземистых строений нашей улицы – наружные стены его были окрашены (побелены) в светло-голубой цвет, большие окна с синими ставнями и крышей из оцинкованного железа. Когда они поселились в нашем краю, у них было трое детей, а потом появилось еще трое. Прокоп работал, кажется, на железной дороге. Был очень высокого роста, худой, с очень длинной шеей. Все лето он ходил в самодельных парусиновых тапочках. Брюки носил полотняные широкие и почему-то всегда короткие – по щиколотку. Мне интересно было наблюдать, как Прокоп, в одно и то же время, не шел, а практически бежал домой с работы – брюки его, как паруса, трепыхались на ветру. Вера не работала – занималась детьми и хозяйством. В домашних делах оба были примерными работягами. После работы и в выходной день (выходным день тогда был только один – воскресенье) они постоянно что-то делали в доме или в огороде. Несмотря на то, что у них было много детей, в доме и на территории их участка всегда была идеальная чистота. Для всей нашей уличной округи они были примером семейной идиллии.
Вера была очень добрая и приветливая женщина. В хороших соседских отношениях была с моей матерью. Мать довольно часто меня к ним посылала – что-нибудь взять или что-нибудь отдать. Тогда такая соседская взаимопомощь была очень в ходу. Но постоянная работа в огороде и в доме дала свои неприятные плоды – Вера заболела экземой. Руки у нее были постоянно перебинтованы. Не знаю, что повлияло – то ли эта болезнь Веры, то ли еще что-то, но Прокоп вдруг ушел из семьи и уехал из города с другой женщиной. Для всех соседей это было, как гром с ясного неба.
Вера Журавлева, почти полный инвалид, осталась одна с 6 детьми. Казалось бы, такой удар раздавит ее в лепешку. Но, к счастью, этого не произошло, она оказалось стойкой женщиной. Царившую на тот момент обстановку в их семье я хорошо помню, потому что старшие ребята из этой семьи были в нашей уличной компании. Их жизнь была, даже по тем меркам, очень нелегкой. Замуж она больше не вышла, оставшуюся жизнь прожила одна и всю себя отдала детям. Всехв оспитала как надо – никто из них не пошел по «наклонной дорожке». Всем дала образование, помогла каждому из них создать семью. Последний раз с Верой Журавлевой я встречался на поминальном обеде, который организовал мой племянник Сергей Новиков по случаю установки надгробного памятника на могиле своих дедушки с бабушкой (моих родителей). Годы и тяжелая жизнь ее не сломили. Хотя это была довольно пожилая женщина, но в словах ее по-прежнему звучали оптимизм и задор.
С начала освоения целины, когда в срочном порядке потребовались квалифицированные кадры, в нашем городе появилось довольно много дипломированных специалистов из числа спецпереселенцев. Для этого им разрешили покидать поселения в Чкаловском, Келлеровском и Красноармейском районах, куда они были в 30-х годах высланы из Украины и Белоруссии.
В основном это были люди породистые – дворянских (шляхетских) кровей и имеющие высокий специальный образовательный уровень. Среди них было много инженеров, экономистов, педагогов, врачей. К тому же, как правило, они все прекрасно владели русским языком. У Журавлевых, так же, как и у нас, отрезали часть приусадебного участка и отдали его под строительство дома примерно такой семье польских специалистов по фамилии Скибинские.
Имен их я, к сожалению, не помню. Знаю только, что сам Скибинский работал прорабом на строительстве элеватора. Скибинская, кажется, была врачом. Она умерла очень рано от онкологии, когда ей не было и тридцати лет. Скибинский после смерти жены стал сильно выпивать. У них была дочь, очень красивая девочка. Звали ее Галя. Она на год была моложе меня. Мне в то время было тринадцать лет, но гормоны уже играли, и я стал оказывать ей знаки внимания. Один раз даже сводил ее в кино. Как-то я решил зайти к ним домой – она меня пригласила, но нарвался на пьяного Скибинского, который, не разговаривая, выпер меня из дома. Родители покойной его жены забрали Галю жить к себе на другой конец города, а сам Скибинский продал дом и вообще куда-то исчез из города. С Галей мы больше не встречались. Знаю только, что она вышла замуж за водителя такси из пассажирского автопредприятия, русского парня по фамилии Огоньков, который жил по соседству с ее дедушкой и бабушкой.
В переулке между нашей улицей и улицей Зеленой стоял домик без крыши (землянка), у которого мы собирались довольно часто. Жила там семья Металиди. Хозяин ее – дядя Миша – был из понтийских греков, высланных из Крыма в 1944 году. Вначале он попал в село Многосопочное, в сорока километрах от Щучинска. Был ли он ранее женат, я не знаю, но в селе Многосопочное он сошелся с солдатской вдовой Настей, муж которой погиб в самом начале войны. У Насти от первого брака было две дочери.
Сразу после войны они переехали из села в город и купили землянку. Вероятно, помог в этом переезде Михаилу его старший брат Константин, который на тот момент работал старшим товароведом в ОРСе отделения железной дороги. Дядя Миша стал заведовать керосиновой лавкой, которая находилась в полуподвальном помещении рядом с железнодорожной столовой. Электричества тогда в наших домах не было, поэтому керосин был единственным энергоносителем или, точнее, носителем семейного комфорта. Для освещения мы пользовались керосиновыми лампами, в летнее время пищу готовили, в основном, на примусах и керогазах, поэтому керосин нужен был каждой семье как воздух.
Зарплата у продавца керосина была маленькая, но «навар», наверное, был очень неплохой. Все покупатели керосина знали, что дядя Миша «чуть-чуть» недоливает. Но он никогда не перешагивал черту дозволенного и, при необходимости, всегда мог отпустить керосин «в долг», поэтому такие маленькие «шалости» ему прощали. Маленький недолив керосина каждому покупателю суммировался ему в хороший «приварок», который позволял дяде Мише содержать свою большую семью.
А его семья действительно росла как на дрожжах. Поздний брак Михаила и Насти оказался на редкость плодовитым. Почти каждый год у них рождался новый ребенок. Сегодня я уже имен всех их детей перечислить не смогу. В общей сложности, у них было, кажется, то ли двенадцать, то ли четырнадцать детей. В нашей тусовочной компании были в основном старшие дети дяди Миши – Надя, Иван, Костя, Степан, Толик. Имен всех остальных я, к своему сожалению, сейчас уже не вспомню.
Где-то в середине 50-х годов тете Насте присвоили звание Мать-героиня и наградили соответствующим орденом в форме Золотой звезды. Некоторое время эта награда была самой интересной игрушкой для детей семьи Металиди. Показывали ее всем. Я сам держал в руках этот золотой орден. Потом кто-то из соседей посетовал Михаилу и Насте, что они уж очень вольно обращаются с такой наградой и тем более с золотой. Орден был изъят из вольного обращения и спрятан от детей. Кстати, моя мать также получила «Медаль материнства» II степени.
Для справки
В 1944 году указом Президиума Верховного Совета СССР были учреждены ордена «Мать-героиня», «Материнская слава» и медаль «Медаль материнства». Многодетной считалась семья, в которой воспитывалось пятеро детей. В период с 1944 по 1991 год многодетным матерям вручались награды:
Медаль «Медаль материнства» II и I степеней – вручалась матерям, воспитавшим 5 и 6 детей;
Орден «Материнская слава» III, II, I степеней – вручался матерям, воспитавшим 7, 8 и 9 детей соответственно;
Орден «Мать-героиня» вручался матерям, воспитавшим 10 и более детей.
По состоянию на 1 января 1995 года орденом «Мать-героиня» награждено приблизительно 431 тысяча женщин.
Когда дядя Миша, вероятно, достаточно «заработал» на керосине, он довольно быстро построил большой дом под четырехскатной железной крышей. Мы, всей гурьбой, часто собирались на лавочке возле дома Металиди. Дядя Миша и тетя Настя были очень добрые и приветливые люди. Когда мы там засиживались допоздна, нас не разгоняли, а, наоборот, тетя Настя часто выносила нам чего-нибудь поесть. Дядя Миша, когда приходил с работы «на поддаче», садился вместе с нами на лавку и рассказывал всевозможные байки из своей жизни.
Наиболее близким из этой семьи мне товарищем был их старший сын Иван. Не знаю, почему уличную кличку мы ему дали «Норец». Была у нас в округе такая знаменитость Иван Норец. Служил он на станционном рынке базаркомом – базарным комендантом (или комиссаром), который собирал взносы за торговое место со всех, кто выносил на рынок что-нибудь, произведенное на личном подворье, продать. Примечательность его заключалось в отсутствии ноги, оставленной на фронте, и в том, что он был крайне требователен к торговцам. Плату за место, как правило, всегда заставлял платить вперед и, если у торговца на этот момент еще не было денег, без разговора сразу лишал базарного места. А так как наши родители довольно часто выносили на рынок молоко, сметану, ранние огурцы, зелень, яйца и т. п., то фамилия Норец была на слуху практически в каждом доме. Я думаю, что, скорее всего, Ванька Металиди данную кличку получил из-за своего имени. А раз Иван, то тогда и «Норец».
В школе Иван Металиди не был ни в отличниках, ни в хорошистах, но восемь классов закончил. Довольно рано пошел работать – то ли на стройку, то ли грузчиком, скорее всего, в торговую организацию, где работал его отец. Зная его характер и трудолюбие, думаю, что работником он был очень неплохим. Позже по комсомольской рекомендации он пошел работать в милицию. Служил во вневедомственной охране, потом дежурным в медвытрезвителе. Когда мы с ним последний раз виделись, он был уже в звании старшего лейтенанта и руководил нашим городским медвытрезвителем. Женился он на девчонке нашего круга, моей соседке, Галке Кириенко. Они построили дом и нарожали двоих или троих детей.
О других детях Михаила и Насти Металиди у меня информации почти нет. Знаю только, что старшая их дочь Надежда очень нравилась Валерке Суртаеву, но она довольно рано вышла замуж за русского парня, который тоже был выходцем из села Многосопочное. Рассказывали, что Костя и Толик построили рядом дома на улице Элеваторной. Толик женился на девушке из межнациональной семьи Хабаху (он – адыгеец, а она – немка), которая жила тоже по соседству с нами.