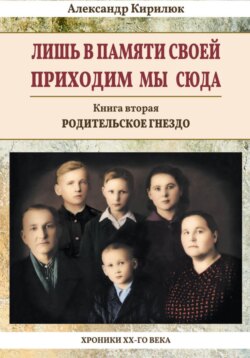Читать книгу Лишь в памяти своей приходим мы сюда. Хроники ХХ-го века. Книга вторая. Родительское гнездо - - Страница 21
Глава III
Щучинск
1952–1960
9
Семейные устои
ОглавлениеВ 50-е годы, когда еще очень сильно ощущались последствия войны, одним из основных, если не главным, источником питания почти каждой семьи были продукты, произведенные в домашнем хозяйстве. Наша семья не составляла исключение. Овощи, мясо, молоко, яйца производились на собственном подворье. В магазинах приобреталось только то, что невозможно было изготовить в домашних условиях. Как правило, в перечень приобретаемых продуктов входили крупы и макаронные изделия, растительные масла и комбинированные жиры, сахар и конфеты, морская рыба и консервы, чай (кофе тогда в нашей среде не культивировался), редко – фрукты, колбаса, всевозможные консервированные продукты.
Как правило, у нас на подворье содержалось не менее трех голов крупного рогатого скота (корова и две, а то и три, головы молодняка), свиноматка с поросятами и четыре-шесть свиней на откорме, тридцать-сорок курнесушек с петухом, один-два выводка цыплят. Гусей и уток тоже держали, но не всегда – для них необходимо, чтобы близко была вода и много корма. Но зато каждую весну родители брали на птицефабрике до сотни месячных цыплят, которые за лето вырастали во взрослых особей и по первому морозу пускались на убой – делался на зиму запас птичьего мяса.
Ранней весной свиньи, содержавшиеся на откорме, забивались. Отец мариновал окорока и где-то в начале мая их коптил. Копчение осуществлялось холодным дымом и продолжалось трое-четверо суток. Окорока все лето хранились в кладовой и не портились – отец делал в кладовой особую вентиляцию. Копченая свинина шла на «быстрый перекус», а также мать использовала ее для приготовления первых блюд. Я особенно любил ее борщи и галушки с копченой свининой. Часть свиного сала шла на солонину, а часть перетапливалась в «смалец», который был основным компонентом для жарки картофеля и других овощей. Кстати, смалец использовали в качестве основного консерванта для хранения уже готовых мясных продуктов. Свиные мясо, ребрышки, домашняя колбаса обжаривались в смальце до готовности и заливались им. Такие «консервы» стояли все лето в прохладном помещении, чаще в погребе, и не портились. Неповторимой вкуснотой отличался приготовленный матерью «салтисон», или «сальтисон». Рецепт его приготовления в корне отличался от рецептов, публикуемых сейчас в интернете. Тщательно очищенный и вымытый свиной желудок начинялся не вареным свиным ливером, а кусочками отборнейшего мяса с чесноком и черным перцем, и запекался в духовке. Процесс запекания был довольно длительный – часов десять. Затем это изделие охлаждалось до комнатной температуры, и только потом его разрешалось есть. Самое большое мне удовольствие доставляло съедать корку сальтисона – стенки желудка, особенно его нижнюю часть, которая прожаривалась и хрустела на зубах.
Летом свежее мясо было довольно редким явлением в нашем рационе, потому что хранить его было негде. Холодильников тогда в нашей округе не было ни у кого. Если родители принимали решение приготовить какое-нибудь первое блюдо (борщ или какой-нибудь суп) на мясном бульоне, то для этой цели рубили старую курицу. Когда такой «дичи» не было, то посылали кого-нибудь из детей (чаще всего это был я) на наш пристанционный рынок занять очередь за мясом. Часам к десяти в маленький мясной ларек привозилась только что освежеванная говяжья или свиная туша. Чтобы выбрать кусок мяса, к этому времени на рынок уже приходили отец или мать, и тогда моя миссия стояния в очереди заканчивалась.
Мяса покупали немного – «на раз» – и поэтому оно съедалось сразу. Этому предшествовал целый ритуал. Вареные целая курица или кусок мяса выкладывались на тарелку или чашку, которая ставилась в середине стола. Никто не приступал к еде, пока не начинал есть отец. После того как съедалась положенная каждому порция первого блюда – борща или супа, отец торжественно делил мясо на порции и выкладывал каждому на тарелку. За столом, пока мы ели, всегда соблюдалась полная тишина. На этот счет отец всегда повторял поговорки – «пока я ем, то глух и нем» или «пока я кушаю, то никого не слушаю».
После окончания обеда начиналось чаепитие. Самовара у нас дома не было, но был большой, литров на семь, алюминиевый чайник с изогнутым носиком. Вода в нем нагревалась на плите, поэтому, когда он ставился на деревянную подставку на стол, то всегда был немного подкопчен сажей. Рядом с ним ставился литровый медный заварной чайник с горячей заваркой настоящего индийского листового или кирпичного чая. Где такой чай доставала мать – одному богу известно. Но одно хочу сказать – у нас в доме на столе всегда был отменный чай. Чай мы пили со свежими сливками и с комковым сахаром вприкуску. Сахар у нас в то время чаще всего был кусковой. В магазине покупалась килограмм на пять в форме усеченного конуса целая литая голова голубоватого сахара. Отец сразу раскалывал ее на крупные куски. В конце обеда отец брал один из кусков, зажимал его в левой руке, а правой обратной стороной лезвия ножа делил его между всеми членами семьи. Как это у него получалось, не знаю, но всем доставалось поровну. Мне кажется, что вкуснее того семейного чая я больше в своей жизни ничего никогда не пил. Во время чаепития уже разрешалось все – разговаривать, шутить, смеяться.
Но такие блюда из свежего мяса были у нас не чаще одного раза в неделю – в какой-нибудь праздник или в выходной день. В будние дни первые блюда – щи, супы, галушки, если не было свежего мяса, готовились с соленым свиным салом с толстыми прослойками мяса или с копченой свининой. Если не было ни того ни другого, то первые блюда заправлялись обязательной овощной зажаркой из лука, помидоров, красного перца. Мать шутя называла такие супы «пустыми». Всевозможные зажарки для первых и вторых блюд делались в основном на топленом свином сале или на топленом сливочном масле. Кстати, в каждом доме всегда имелся еще один топленый жир – гусиный, но использовался он в основном для лечебных целей. На его основе делались всевозможные заживляющие и согревающие мази, которыми лечили ожоги, раны, цыпки, простуды и т. п.
В каждом доме был свой сепаратор. Надоенное за день молоко вечером пропускалось через сепаратор. Электрических сепараторов тогда еще не было, да и электричества тоже. Крутить сепаратор обязанность была моя. Тяжело было сначала раскрутить барабан, а потом уже его только подталкиваешь по инерции. Но все равно для восьми-девятилетнего мальчишки работа не из легких. Но в награду за эту работу тебе потом предоставляется возможность разобрать сепаратор и облизать сливки со всех дисков (тарелочек) барабана, а их в барабане, наверное, было штук тридцать, не меньше. Сливки от нас никогда не прятали, и когда я очень хотел их поесть со свежим хлебом, то мать мне никогда в этом желании не отказывала. Но слизать сливки с тарелочек барабана сепаратора – это просто неописуемое наслаждение.
Неделю сливки накапливали, и они постепенно превращались в сметану. Перерабатывать, или, как тогда говорили, «сбивать» сметану на ручной деревянной маслобойке в сливочное масло тоже было моей обязанностью.
Обрат (обезжиренное после сепарирования молоко) и пахту (обезжиренная после маслобойки сметана) использовали для кормления поросят и телят. Да я и сам был довольно большим любителем пахты. Кстати, это очень полезный кисломолочный продукт, по вкусу чем-то напоминающий «шубат» – верблюжий кумыс, который сегодня дают в элитных санаториях в качестве дорогого лечебного напитка. Но когда молодняк подрастал и необходимость поения его обратом исчезала, обрат шел на изготовление творога, из которого мать варила очень вкусный сыр. Дома готовились и другие молочные продукты – ряженка, простокваша и т. п.
Для того чтобы охладить молоко, сметану или сливочное масло их помещали в металлическую емкость (эмалированное ведро или бидон) и на веревке опускали в колодец до уровня воды.
В тот период в магазинах довольно часто случались перебои с хлебом. Поэтому хлеб и другие мучные изделия тоже производились в доме. До сих пор помню всю технологическую цепочку изготовления хлеба. Из хмеля, который тоже рос у нас во дворе, и отрубей мать делала путем запарки смесь. Из этой смеси в форме шариков катала дрожжи и сушила их, рассыпав ровным слоем на столе. Готовые (сухие) дрожжи хранились в белом мешочке из плотного полотна в сухом, около печи, месте. На этих дрожжах делалась закваска – опара. Когда опара была готова, начинался процесс подготовки теста. Тесто мать готовила в большой деревянной кадушке. Оно ставилось в теплое место, много раз мешалось. Когда тесто взбухало (поднималось в кадушке), говорили, что тесто «подошло», и можно было уже его формовать и выкладывать на противни (мы их называли просто «листы»). Фасованное в булки тесто должно было еще некоторое время полежать на листах – «дойти». Березовыми дровами протапливалась русская печь. Когда дрова прогорали, зола из печи удалялась и в печь ставились листы с тестом. Печь закрывалась заслонкой, и начинался процесс хлебопечения. Мать несколько раз открывала заслонку, проверяя готовность хлеба. Хлеб должен был быть хорошо пропеченным, но не подгоревшим. Качество хлеба проверялось следующим образом. Рукой продавливали булку до основания и убирали руку. Если булка сразу же принимала первоначальную форму, то считалось, что хлеб получился самого высокого качества. У матери всегда был только такой хлеб.
Качество выпекаемого хлеба зависело не только от квалификации мастера. Большую роль играло и качество используемых ингредиентов (дрожжей и муки). Поэтому мы редко покупали в магазине готовую муку. Чаще всего отец покупал в колхозе, где он в это время работал, определенного сорта зерно, которое мы потом в количестве двух-трех мешков мололи на мельнице. Мать очень дорожила своей репутацией искусного хлебопека. Я помню, как она один раз использовала купленные на базаре дрожжи. Как ни мучилась мать с тестом – много раз месила, подогревала его, но оно не «подошло». Испеченный из этого теста хлеб представлял из себя коржи, а не булки. Мать даже заплакала от досады. Больше она чужие дрожжи никогда не использовала.
Хлеб мать пекла один раз в неделю и выпекала шесть больших булок, которых нашей семье с избытком хватало на неделю. Я очень любил момент, когда мать доставала из печи хлеб и старался его не «проворонить». Она знала эту мою маленькую слабость и с улыбкой отрезала мне еще дымящую горбушку. До сих пор утверждаю, что вкуснее горячей горбушки испеченного матерью хлеба с холодным молоком не было и нет ничего на свете.
Родители мои были людьми очень общительными, поэтому их всегда приглашали на какие-либо мероприятия соседи и друзья. Соответственно и нас гости не обходили стороной. Хотя в то время в магазинах продавался довольно обширный ассортимент вина и водки, но бюджет семьи, даже с достатком выше среднего, не позволял приобретать их в достаточном для приема гостей количестве. Поэтому горячительные напитки почти в каждой семье были домашнего изготовления. Вначале это была слабоалкогольная бражка, а попозже из нее уже стали гнать самогон. Для того чтобы улучшить вкусовые качества домашнего алкоголя, его настаивали на ягодах и травяных сборах. Удавалось или не удавалось это сделать, сказать не могу – не пробовал.
К приходу гостей мать всегда старалась приготовить обильное, по тем временам, угощение. В основном это стандартный для того времени набор – холодец, борщ или тушеная картошка с мясом, сало, ветчина, селедка, вареная картошка, винегрет. Много ставилось на стол солонины – капуста, огурцы, помидоры, грибы. И еще, не знаю почему, в обязательном порядке на столе ставились тарелки с густым фруктовым киселем, сваренным из сушеных яблок, груш, слив, урюка. Ели его ложками. Наверное, это было своего рода десертным блюдом. Кроме того, мать всегда выпекала много всевозможной сдобы – сладких плюшек, мазанных сахарной помадкой или с начинкой из ягод степной клубники.
Перед приходом гостей нас, детей, кормили до отвала всем тем, что предназначалось для них, а когда приходили гости – как правило, выпроваживали на улицу.
Огород у нас был довольно большой. Мать сажала все. Почти четверть огорода занимала плантация помидоров – примерно около 150 корней – и столько же капусты. Весь накопленный за зиму свежий навоз использовали для сооружения большого парника под огурцы. В огороде делали десятка полтора всевозможных грядок, на которых сажали всевозможную зелень, а также морковку, редиску, редьку, свеклу, репу, горох, бобы, фасоль, кабачки, баклажаны и еще какие-то овощи. Солидную площадь огорода занимали ягодники – малина, смородина, крыжовник, вишня. Отец даже сделал попытку выращивать фрукты. Посадил две груши и четыре яблоньки. Но они давали плоды, годные только для переработки на варенье или повидло. В сыром виде их есть было нельзя, так как они имели кислогорький вкус, от которого сводило скулы. Для посадки картошки мы брали десять соток земли за городом. Постоянной земли под дачи тогда еще не давали, но небольшой участок под временный огород любая семья могла получить через предприятие, на котором работал один из ее членов. Как правило, засаживался этот участок только картошкой.
Летом в сезон сбора ягод мы до отвала объедались дикой земляникой, клубникой, костяникой. Ходили в горы за малиной. Старшие, Алла и Толя, со своими сверстниками за малиной ходили с ночевкой, потому что дорога в один конец составляла примерно километров пятнадцать. В урожайный год клубники собирали очень много. Но собранную клубнику потом нужно было еще «обработать», то есть оторвать с каждой ягоды «шляпки» – верхние листочки. Это была страшно муторная работа. Она занимала не меньше, а даже больше времени, чем сбор клубники. Примерно половина собранной и обработанной клубники пускалась на варенье. А вторая часть сушилась и впоследствии использовалась в качестве начинки для приготовления сдобы. Для этого мать сушеную клубнику распаривала и мешала с яблочным повидлом или джемом, которые мы покупали в магазине. Джем и повидло завозили в магазин в больших металлических банках емкостью по пять-десять литров, и продавались они в основном «на развес». Клубнику мать сушила на чердаке, рассыпав на большой клеенке. Когда она подвяливалась, то становилась неимоверно вкусная. Я тайком «наведывался» на чердак и понемногу ее «подъедал», а чтобы скрыть следы преступления, затем старался ровно ее разгрести по клеенке. Но мать все-таки заметила, что клубника резко «усушивается», и со мной была проведена соответствующая «профилактическая беседа». Собранную костянику в эмалированной или стеклянной таре (ведрах, кастрюлях, бутылях, банках) на две трети заливали холодной родниковой или колодезной (пока санитарные врачи не стали бросать в наш колодец хлорку) водой и ставили в погреб. Потом этот сироп подслащивали сахаром и делали вкуснейший морс.
Примерно с моего десятилетнего возраста отец, когда у него не было летнего подряда, стал брать меня с собой собирать грибы. Мне это занятие настолько понравилось, что впоследствии оно стало одной из немногих моих страстей. В начале шестого часа утра отец будил меня и уже без десяти шесть мы были с ним в пассажирской автобазе. В это время на линию выпускали автобусы. Тут же мы садились в автобус, который с автостанции в шесть часов уже должен был совершать рейс на Боровое. Большинство работников автобазы нас хорошо знали, поэтому заранее попасть в автобус для нас никаких проблем не составляло. На автостанции в автобус «под завязку» набивались такие же грибники, как и мы. В основном, все любители «тихой охоты» высаживались по дороге, на полпути в Боровое – на Воробьевском свертке. К середине дня нас, с заполненными грибами корзинами и ведрами, в этом же месте подбирал рейсовый автобус.
В нашей местности основными грибами, которые использовали для засолки, считались рыжик, «сырой» и «сухой» грузди. За свою красоту и вкус рыжик по праву имел прозвище «царский гриб», но урожайные годы на него случались нечасто. В лесных низинках – сырых местах рос еще и «сырой» груздь. Посвоему виду он чем-то был схож с рыжиком, только белого цвета. Ножка у него, как и у рыжика, была полая и на срезе отливала перламутром, а на шляпке висела бахрома. Попадался он довольно редко, поэтому, королем всех грибов, которые шли на засолку, считался белый или, как мы его сами называли, «сухой» груздь, который и был в основном объектом массового сбора.
Любой грибник скажет, что самое большое удовольствие доставляет поиск груздей. Собирать их нужно иметь большое умение. Дело в том, что груздь формируется под верхним слоем почвы – слоем мха, листьев и иголок. Там, где он растет, вырастает еле заметный бугорок, который неопытным глазом разглядеть очень сложно. Если ты попадаешь на обширную грибную полянку, то, «перепахав» ее руками, можно набрать до полуведра небольших, кругленьких, красивейших молодых груздочков. Довольно часто мы с отцом за одну ходку приносили домой до пяти-шести ведер такого богатства. «По пути» мы набирали на «жареху» еще с ведро других съедобных грибов (сыроежек, маслят, моховиков, подосиновиков, подберезовиков и т. п.).
Да, сбор груздей удовольствие, а вот подготовка их к засолу это уже далеко не радостный труд, которым в основном занималась мать. Груздь имеет одну особенность – шляпка, как бы ты его аккуратно ни вынимал изпод земли, сверху всегда будет основательно припудрена лесной грязью (землей, листьями, иголками, мхом). Поэтому принесенные домой грузди вначале на несколько часов помещали в большую емкость с водой (корыто, бочку) с таким расчетом, чтобы вся прилипшая к ним грязь отмокла. Затем начиналось самое трудное – каждый гриб щеточкой и ножом надо было осторожно, чтобы не помять нижние пластинки шляпки, очистить и отмыть до идеальной чистоты. Иногда на это уходило гораздо больше времени, чем на сбор. Первые наши походы за грибами матерью приветствовались. Но часто обработка ею нашей с отцом «добычи» затягивалась далеко за полночь. Поэтому если наш «вояж» на второй день был такой же, как в первый день, то радости ей это не доставляло. Поход за грибами в третий день подряд она нам уже запрещала. Но мы не могли удержаться от обуявшего нас «грибного азарта» и «втихушку» рано утром опять сбегали в лес. Когда мы возвращались опять с заполненной грибами тарой, скандала уже было не избежать. Мать демонстративно отказывалась мыть грибы, и нам с отцом приходилось делать это самим.
Открытых водоемов, в виде речки или озера, и водопроводов в нашей округе и вблизи ее не было. Источником воды как для питья и приготовления пищи, так и для полива огорода служили колодцы. Выкопать колодец было очень трудоемким и затратным делом. «Первая» вода в колодце появлялась где-то на глубине 10–12 метров. Для того, чтобы получать в достаточном количестве чистую хорошую воду, надо было еще углубиться на 2–3 метра. Кроме того, необходимо было укрепить еще и стенки колодца, чтобы они не обваливались. Для этой цели в колодце устанавливали изготовленный из толстых лиственных плах сруб.
Но не всегда можно было попасть на пресную воду. Довольно часто копатели колодцев попадали на солоноватый источник подземных вод или на «плывуны». Тогда приходилось этот колодец засыпать и копать новый. Поэтому при выборе места для колодца приглашали в качестве консультанта очень компетентного специалиста с безупречной репутацией, зачастую даже из другого населенного пункта, который выбирал место по внешним признакам поверхности земли.
От качества воды у потребителей зависит и здоровье, и настроение. Если в воде недостаток или переизбыток фтора это отражается на состоянии зубов. Недостаток йода провоцирует болезни щитовидной железы и мозгового кровообращения. Солоноватая вода не утолит жажды и не годится для приготовления пищи. Я видел также, как недовольно фыркает скот, когда его пытались поить солоноватой водой.
Почему вода в колодцах бывает соленой и что такое «плывуны», да еще массу других попутных вопросов я задал отцу. Отец от моих детских расспросов не отмахнулся, с интересом посмотрел на меня и стал объяснять, что к чему. Тогда я впервые узнал, что в глубине земли тоже текут реки, которые сообщаются с наземными источниками воды, в том числе и солеными, что некоторые подземные реки несут с собой большое количество очень мелкого песка, называемого «плывуном». И если колодец попадает в русло такой песчано-водяной реки, то его дно забивается песком и не дает чистой воде выйти на поверхность. И когда я рассказал про это в школе на уроке природоведения, наша учительница Клавдия Лукинична поставила мне в журнал «жирную» пятерку и мою любознательность привела всем другим ученикам класса в пример. Я сиял от своей значительности.
Поэтому не каждая семья могла позволить иметь у себя во дворе колодец. Чаще всего колодец копался на два-три дома. Отец скооперировался с соседом Алексеем Котляром на условиях, что он выкопает колодец, а Котляр берет на себя изготовление сруба и обеспечит отцу помощника для работы сверху. Место для будущего колодца отец на границе участков выбрал сам. Оказывается, он имел на это необходимые знания. Говорил, что их дала его шахтерская практика. На шестом или седьмом метре отец выкопал громадную кость, вероятно, принадлежавшую какому-то доисторическому животному. Про эту находку отец не хотел никому говорить, но Котляр все-таки кому-то сказал. Дня через четыре к нам приехали из Кокчетава работники областного краеведческого музея и кость забрали с собой.
Вода в колодце оказалась отменная. У нас началось целое нашествие ближайших соседей за водой. Но торжествовать нам пришлось недолго. Года через два после ввода колодца в эксплуатацию к нам регулярно стали наведываться работники санэпидемстанции с целью обеззараживания источника питьевой воды. Вся беда была в том, что наш колодец имел свободный доступ с улицы и, как они говорили, имелась опасность внесения заразы извне. О колодцах, которые находились в глубине дворов, они, вероятно, информации не имели, да и пройти туда, минуя цепного пса, было довольно сложно. Поэтому процедуре обеззараживания подвергались колодцы, которые стояли на виду. Процесс обеззараживания производился очень просто и очень быстро. В колодец просто высыпался большой пакет с хлоркой и… все. После проведения такого обеззараживания пить воду и готовить из нее пищу было просто невозможно. Летом, за счет большого расхода воды на полив огорода, где-то за пару недель вкус хлорки постепенно исчезал, но зимой стойко держался довольно долго.
По сути своей, по сегодняшним представлениям, в то время каждое подворье представляло собой малое фермерское хозяйство, а каждая семья – его трудовой коллектив. Работали все. В доме негласно были четко определены домашние обязанности для каждого члена семьи. Летом отец был постоянно в отъезде – работал в ближайших колхозах. Копал колодцы, строил новые и ремонтировал старые коровники, телятники. Как тогда говорили, «шабашил». Бригада у него была небольшая – от двух до четырех человек. В основном все молодые пенсионеры – бывшие шахтеры. Мать тоже была довольно часто в разъездах – занималась коммерческой деятельностью или, как тогда говорили, мелкой спекуляцией. Пенсии вместе с приработком отца на жизнь всей семьи не хватало, а она пенсию не получала. Но, ради справедливости, надо сказать, что именно ее коммерческая деятельность была основным источником семейного дохода. Поэтому основную нагрузку по выполнению домашней работы несли мы – дети.
В вопросах воспитания нас, подрастающего поколения, родители действовали в соответствии с господствующей в то время заповедью – «дите надо воспитывать и учить, пока оно лежит поперек лавки, а когда оно вытянется вдоль нее, то его уже не воспитаешь и ничему не научишь». Нам с раннего детства внушали, что главная опора в жизни – семья и что только в рамках своей семьи ты можешь себя чувствовать уверенно и комфортно, и только от нее ты в тяжелые моменты можешь получить необходимую помощь и поддержку. Отец и мать никогда не скрывали от детей финансовые возможности и проблемы семьи. Это тоже было одним из методов нашего воспитания. Родители считали, что такая осведомленность заставляет детей самостоятельно нивелировать свои материальные запросы. Все заработанные членами семьи (вначале это были только отец и мать, и позже, когда стали уже работать Алла и Толя) деньги до копейки шли в общий котел. За общим столом с нами обсуждались предстоящие доходы и расходы, даже в мелких деталях. Тут принимались решения, кому из нас что купить. Какие-либо просьбы о дополнительных покупках никто не высказывал, потому что они считались неприличными и не приветствовались. Казначеем – хранителем денег или семейным бухгалтером – была мать. Но все знали где лежат деньги – семейная касса. И если нас посылали в магазин за продуктами, то мы самостоятельно брали деньги из семейной кассы. После похода в магазин обязательно делался матери отчет о тратах. Оставшиеся деньги мы также самостоятельно клали обратно в семейную кассу.
В семье доминировал культ труда. В общении с нами, детьми, у родителей на устах всегда были в ходу поговорки: «Как потопаешь, так и полопаешь», «Глаза боятся, руки делают», «Без труда не вынуть и рыбку из пруда» и т. п. Уже примерно с восьмилетнего возраста у меня тоже были четко очерченные обязанности по дому. В летнее время (с конца мая до августа) я пас нашу корову, о чем я рассказывал. С начала августа, когда корова отправлялась в общественное стадо, и до начала школьных занятий я чистил специальным чистиком от кожуры жерди, которые отец ездил заготавливать в ближайшие лесничества. Доски достать было тяжело, да и стоили они довольно дорого, поэтому жерди были основным строительным древесным материалом при строительстве дома и подсобных сооружений. Из них были сделаны потолки дома и сараев, они были использованы в качестве штакетника при возведении забора вокруг нашего земельного участка и т. п. Мне по очистке жердей отцом было установлено ежедневное задание в количестве сорока штук. На эту работу я затрачивал примерно пять-шесть часов. Надо правду сказать, спать мне давали по времени столько, сколько захочу. Пока сам не проснусь, не будили, так как жалели, учитывая, что предыдущие два месяца, когда пас корову, мне приходилось вставать очень рано. Поэтому вставал я часов в одиннадцать-двенадцать и, позавтракав или, точнее, пообедав, сразу принимался за чистку жердей. Заканчивал я эту работу примерно в пять-шесть часов пополудни и с этого момента до девяти часов вечера у меня было свободное время, которое я мог использовать по своему усмотрению. В основном я бежал купаться на котлован в лесопитомнике, так как в то время там уже были все пацаны с нашей округи. В общем, за эти три-четыре часа я получал максимум удовольствия.
С девяти часов примерно до одиннадцати осуществлялась поливка огорода. Поливать все огородные овощи рекомендовалось только теплой водой. Для этой цели рядом с колодцем отец поставил три деревянных бочки – две по двадцать ведер емкостью, а одна была очень большая – в нее входило сорок ведер воды. Как правило, полив овощей осуществлялся вечером, поэтому эти емкости наполнялись водой из колодца сразу после полива или рано утром, с тем расчетом, что за день вода будет достаточно подогретой. Поливать непосредственно водой из колодца огурцы и помидоры было строго запрещено.
Огурцы поливали каждый день, а помидоры через день. Какое количество воды лить в какую лунку, определяла мать, но с таким расчетом, чтобы нагретая за день в бочках вода была использована полностью.
Бочки с водой и место посадки овощей находились в разных концах приусадебного участка, поэтому путь носки воды был достаточно длинен. Поливом, как правило, занимались Алла, Толя и я. Алеша, по причине своего малолетства, в этой работе участия не принимал.
Процесс полива заключался в следующем – надо было достать полные ведра воды из бочки, отнести их на место полива и мерной емкостью (большим ковшом) разлить воду по лункам. У каждого поливальщика была своя норма полива лунок – у старших она была больше, а у меня меньше. Хотя ведра у всех были одинаковые, но носить их я мог заполненными водой только наполовину. Для носки полных ведер у восьмилетнего мальчишки еще не было достаточно силенок. Но самое тяжелое было достать воду из бочки, особенно зачерпывать ее со дна. Для этого у меня не хватало ни роста, ни сил. Да и при носке воды большие ведра били тебя по икрам, обливали водой – в общем, приятного было мало.
Правда, в такие дни старшие брат с сестрой все-таки меня щадили. Закончив поливать свои делянки, они сразу шли на помощь ко мне. Но в субботу, когда они бежали на танцплощадку клуба железнодорожников, я должен был полностью отработать эту оказанную мне такую помощь. Родители их отпускали на танцы только при условии, если я дам согласие выполнить причитающую им норму полива. Но полив – еще не вся работа. После него надо было пустые бочки заполнить водой из колодца, а это примерно сто ведер. Поэтому в субботу мой рабочий день заканчивался уже затемно.
Мне и моим сверстникам, было интересно, где и как танцует наше старшее поколение. Поэтому мы – человек десять, а то и больше, соседских пацанов – сразу же после завершения огородно-поливочных работ стрелой бежали на танцплощадку. Танцплощадка была деревянная, установленная на высоких сваях, поэтому мы свободно умещались под полом и слушали, как играет духовой оркестр. Нас замечали и разгоняли сами танцующие. Мы разбегались по кустам, ждали, когда наши «разгонщики» возвратятся обратно, и потихоньку опять пробирались под танцплощадку.
Уборкой дома занималась Алла. Три раза в неделю делалась большая уборка с мытьем полов. Мать в основном готовила еду. Когда она куда-нибудь уезжала, всю работу по дому полностью выполняла Алла. Уход за скотиной осуществлял Толя.
В мои обязанности входили прополка и полив грядок. Прополка грядок и первая прополка (до окучивания) картошки в обязательном порядке выполнялась не тяпкой, а «вручную». Необходимо было каждый сорняк вырвать с корешком. Занятие это было не тяжелое, но очень муторное. Если при очистке жердей мне разрешалось спать до десяти-одиннадцати часов, то для выполнения этой работы мать поднимала меня рано, чтобы я работал «по холодку» и днем не «напек» себе на солнце голову. Качество выполненной работы оценивалось через неделю. Если сорняки не появлялись или их было мало, то считалось, что к работе ты отнесся ответственно, если же грядка опять обильно зарастала сорняками, то ты бракодел.
Когда мои старшие брат с сестрой стали работать, а затем в 1957 году Анатолия призвали в армию, а потом и Алла в 1959 году вышла замуж, вся работа по дому полностью легла на меня. Я научился делать полную уборку в доме, готовить еду, ухаживать за скотиной, доить корову, даже стирать в корыте на стиральной доске. Надо сказать, что с этого времени по дому, а также поливу и прополке огородных грядок мне стал помогать мой младший братишка Алеша. В 1958 году он пошел учиться в первый класс той школы, где в это время учился я, и был полностью под моим контролем.
Уроки мужской работы мне давал отец. С отцом вдвоем мы посадили сад, обнесли штакетником наш приусадебный участок, пристроили сарай. Кстати, когда отец делал какую-либо работу, особенно если он что-то пристраивал или мастерил, то всегда держал меня при себе. Сильно работой не загружал, но, как взрослому, пояснял мне для чего он делает ту или иную операцию, назначение того или иного инструмента или приспособления. Показывал мне, как при помощи системы блоков можно поднимать тяжелые предметы на большую высоту. Мне же очень хотелось бежать на улицу – к ребятам. Но, угадывая мое желание, отец говорил: – «Набегаться всегда успеешь, а сейчас смотри и запоминай – в жизни все пригодится».