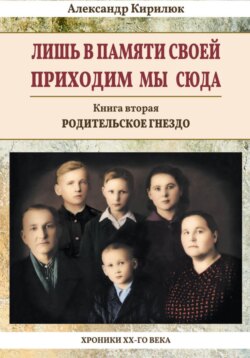Читать книгу Лишь в памяти своей приходим мы сюда. Хроники ХХ-го века. Книга вторая. Родительское гнездо - - Страница 18
Глава III
Щучинск
1952–1960
6
Целина
ОглавлениеВ 1954 году, с началом освоения целинных земель, жизнь в пристанционном районе нашего города, а точнее в округе, где жили мы, резко изменилась. С точки зрения освоения целинных земель Щучинский район не очень сильно был задействован в этой масштабной кампании. Все плодородные земли здесь были освоены еще до революции, полстолетия тому назад, в основном во время Столыпинской реформы. Только в юго-восточной части нашего района, на отгонных участках колхозов, было организовано четыре целинных совхоза – Щучинский, Щорсовский, Донской и Джамбульский.
Но наш город, а именно станция Курорт-Боровое, должен был стать в Целинном регионе, если говорить сегодняшним языком, одним из самых крупных логистических центров по приему, подработке, хранению и отправке зерна на мукомольные заводы центральной части страны. Поэтому на пустыре, напротив нашего дома, началось строительство элеватора. Вначале был построен большой палаточный городок, в котором жили строители из Москвы и Ленинграда. Потом были построены электростанция, асфальтированные площадки, склады. Чуть позже начато строительство основного здания элеватора – сушилки – и бетонных емкостей для хранения зерна.
Специалистам на этой стройке – инженерам, мастерам, прорабам – пытались создать более комфортные, по тем временам, жилищные и бытовые условия. За неимением в городе гостиниц их размещали по частным домам. К нам тоже на постой, с полным пансионом, то есть с трехразовым питанием, определили двоих мастеров или прорабов, точно не помню. Один из них, звали его Виктор Банин, был, кажется, из демобилизованных армейских офицеров, а второй, Федор, был командирован на стройку элеватора с Украины.
Им отвели нашу общую комнату, в которой дополнительно поставили две кровати-раскладушки. Алла и Алеша спали в родительской спальне, а я с Толей на старой кровати на кухне. Кроватная сетка была настолько продавлена, что сверху на нее пришлось положить доски. Было жестко, но спалось хорошо.
На строительстве элеватора было задействовано много демобилизованных по сокращению из армии офицеров. Дело в том, что в 1955–1958, а затем и в 1960 годах было произведено сокращение советских Вооруженных Сил более чем на половину, а это около 3,5 млн солдат и офицеров. Служивых людей увольняли или, проще говоря, выбрасывали на улицу без пенсий, жилья и работы. Наиболее болезненно проходил самый первый этап сокращений, это когда меньше, чем за три года, из армии и флота было уволено свыше 2 млн человек, огромная цифра, вместе с семьями эти сокращения затронули судьбы миллионов советских людей. Чтобы как-то найти себя в этой гражданской, совершенно новой для них, жизни люди вынуждены были, оставив семьи по старому месту жительства, ехать на сезонные строительные работы на целину. Через проживающих у нас квартирантов наша семья была знакома со многими из них.
У каждого судьба складывалась по-разному. Кто-то пристраивался на партийную и советскую работу в качестве инструкторов райкома или райисполкома, довольно быстро получал ведомственное жилье и привозил семью. Кто-то становился профессиональным строителем и после окончания строительства элеватора уезжал на новые стройки. Кто-то устраивался на педагогическую работу. Один такой офицер нам преподавал историю в школе. Кто-то уходил работать в сельское хозяйство. У нас в совхозах района многие демобилизованные в тот период офицеры работали парторгами, председателями сельских советов и профсоюзных комитетов.
Каждый год с конца июля недалеко от нас рядом с дистанцией лесонасаждений, или как мы, ребятишки, ее между собой называли «живзащита», располагался палаточный лагерь воинской части, присланной на уборочные работы. Одна часть военных – водители – возили зерно из целинных совхозов на элеватор, другая часть военных работала на подработке зерна на элеваторе. Мы, малышня, все свободное от домашних обязанностей время проводили около военного городка, в надежде, что кто-нибудь из военных водителей возьмет с собой покататься. Кроме того, солдаты нам, малышне, давали махорку, так как покуривали мы все поголовно. Ближе к темноте к военному городку подтягивались и взрослые. Там, раза три в неделю по вечерам, прямо на улице вешали белый экран, и для солдат показывали кино. Смотреть его пускали всех гражданских с ближайшей округи. Кстати, что интересно, такое кино можно было смотреть с обеих сторон экрана, поэтому никаких конфликтов из-за места между ребятней не было.
С появлением на стройплощадке элеватора электростанции у жителей близлежащих улиц появилась надежда иметь в своем доме «лампочку Ильича». До этих пор основным источником света в домах была керосиновая лампа. А когда были перебои с осветительным керосином, прибором освещения был «каганец» – блюдце с топленым свиным салом и фитильком из ваты, так как стеариновые свечи тоже были в большом дефиците.
В 1955 году отцы семей с нашей улицы сбросились и купили в лесничестве сосновые столбы, выкопали ямы и вручную баграми установили столбы. Были наняты электрики, которыенатянулинампровода. Первоначально нам было разрешено установить в доме по одной розетке и по одной «светоточке», то есть лампочке. Электроэнергию нам давали в определенные часы – в основном с 6 до 11 часов вечера. Потом, когда мы установили счетчики, было разрешено провести электропроводку во всех комнатах. Электроэнергия была дорогая, и Толя провел мимо электросчетчика проводку и установил потайной перекидной рубильник, которым мы пользовались в ночное время, обходя электросчетчик. Электроэнергию воровали не только мы, воровали все. Пытаясь поймать похитителей, контролеры умудрялись приходить тогда, когда их, казалось бы, не должно быть – и поздно вечером, и рано утром. Поэтому задача каждого члена семьи, который был ближе к этому рубильнику, заключалась в том, чтобы быстро и незаметно его переключить.
Годом позже мы приобрели с рук радиолу «Рига-6». Для нашей семьи это было целое богатство. С каким нетерпением я ждал в половине второго дня передачу «В гостях у сказки». Транслировались сказки Бажова, Андерсена, Перро, братьев Гримм. Постановки были настолько профессиональные, что я до сих пор помню их содержание. А тексты некоторых пластинок (например, арии из оперетты «Трембита») я и сейчас могу воспроизвести почти полностью.
Денег, как всегда, не хватало. Мать постоянно искала варианты заработка. От квартирантов мои родители меньше чем через год отказались. Они оценили этот «бизнес» затеей очень хлопотной и крайне невыгодной, да и уже становились взрослыми старшие дети, которым тоже было необходимо нормальное жилье. В зимнее время к проходившим через нашу станцию поездам мать вывозила на санках и продавала пассажирам комплексные обеды – вареную картошку, котлеты, соленые грибы и огурцы. Я ей всегда помогал тащить эти санки. Местное железнодорожное начальство запрещало эту торговлю, называя ее спекуляцией, поэтому станционные милиционеры на торговок постоянно устраивали охоту. Чтобы не попасть под такую облаву, мать изобрела следующую тактику. Она выходила на перрон без санок, а я в это время стоял с санками за оградой перрона и, когда останавливался поезд, по знаку матери, вывозил их на перрон. В случае появления на горизонте милиционера я мигом исчезал с санками за ограду перрона.
Лет до десяти-одиннадцати мать довольно часто привлекала меня к торговым делам. Я носил и продавал на пристанционном рынке свежие и малосольные огурцы, зеленый лук, молодую картошку. Разносил по близлежащим многоквартирным домам элеватора постоянным нашим клиентам молоко. Но потом, когда стал уже учиться в пятом классе и мою фотографию повесили на школьную доску почета, я стал вредничать, боясь, что меня за этим занятием застукают одноклассники и прилепят какую-нибудь нехорошую кличку типа «спекулянт». Правда, в один из базарных дней я с удовлетворением увидел, как за соседним прилавком продавала свежие огурцы лучшая ученица нашего класса Галка Бурая.
Одно время у меня был еще один очень доходный «левый» заработок, но, правда, сравнительно недолго. Тетя Нина, бывшая жена моего дяди Ильи Ивановича Треносова, работала буфетчицей в маленьком кафе на железнодорожном вокзале. Посетителями этого кафе в основном были пассажиры с проходивших поездов. В то время стоянки пассажирских поездов были длительные, и люди успевали в этом ресторанчике нормально перекусить. Специальных официантов в штате кафе не было, поэтому все заказы оформлялись через буфет. Кроме того, в буфете на разлив продавали крепленое вино. По сравнению с магазинным, это вино отличалось только увеличенной на сорок процентов ценой. Чтобы у посетителей не возникало вопросов по цене, да и не было соблазна у буфетчицы «химичить», на всех бутылках, предназначенных для продажи на разлив, ставилась круглая печать ОРСа. Тетя Нина в торговле была человеком опытным и изобретательным, поэтому проблема, «как схимичить», ею очень быстро была решена. В магазине она покупала такое же вино, так называемый «контрафакт», которым опять заполнялись опечатанные бутылки по мере их опорожнения. Установленная ОРСом надбавка полностью шла ей в карман.
Но руководство ОРСа часто практиковало внезапные проверки. Если проверяющие находили в буфете бутылки, даже пустые, без печати ОРСа на этикетке, то такой факт руководство ОРСа рассматривало как хищение государственной собственности. А это для проверяемого грозило в лучшем случая увольнением, а в худшем передачей материалов в ОБХСС. Кроме того, в буфете работали еще люди, а у тети Нины было самое хлебное место, поэтому желающих при случае «настучать» на нее было предостаточно.
Желания «заработать» у тети Нины не отбивала даже такая опасность. Она очень четко разработала план реализации контрафакта. Немаловажная роль в этом плане за определенное вознаграждение была приготовлена и для меня. Перед приходом поезда я приносил, а точнее привозил на автобусе, заранее купленные ею в магазине бутылки с вином на вокзал. Сколько их было в партии, сейчас точно уже сказать не могу, но помню, что сумка была очень тяжелая. С сумкой я проходил в зал ожидания, но обязательно через буфет, чтобы тетя Нина меня увидела. Она несколько раз выходила ко мне и малыми партиями уносила эти бутылки. Но кто-то все-таки настучал на нее. Тетя Нина лишилась своего «хлебного» места, а я – стабильного заработка.
Начиная где-то с 1958 года мать стала от такой многоотраслевой торговли отказываться, предпочитая возить из Воронежской области на продажу пуховые платки. По тем временам это был более прибыльный, но более опасный бизнес. Если торговля продукцией, созданной на собственном подворье, хотя и не поощрялась, но не запрещалась, то торговля товаром, приобретаемым на стороне, расценивалась как спекуляция, что являлось уголовно наказуемым действом.
Отец проработал на нефтебазе Боровской МТС до весны 1955 года. Чувствовать себя он стал намного лучше. Из знакомых мужиков, приехавших, как и он, в Щучинск с рудников, он сколотил бригаду строителей. Два года работы на нефтебазе оказались для него полезными в части знакомства с руководителями близлежащих колхозов, что позволило обеспечить его бригаду подрядами на строительство и ремонт животноводческих помещений на долгое время. Кроме того, горняцкий опыт позволил стать ему высококлассным и дефицитным специалистом по копке колодцев. Притом он мог не только выкопать колодец, но и найти по приметам, только ему известным, место, где должна быть хорошая питьевая вода. В то время во многих малых деревнях питьевая вода была привозная, а скот гоняли на водопой на естественные водоемы с пресной водой довольно далеко от поселка. Наличие в поселке колодца с хорошей питьевой водой решало многие проблемы. Поэтому у отца заказы на копку колодцев были на несколько лет вперед. Строил отец в Дорофеевке, Савинке, Обалах, Ново-Андреевке. Долгое время основным источником пресной воды были выкопанные им колодцы в таких селах района, как Обалы, Тюлькули, Савинка, Дорофеевка, Многосопочное, а также в нескольких лесничествах.
Работа была сезонная, но довольно высокооплачиваемая. Отец стал уважаемым в округе человеком. Очень часто в гостях у нас дома были руководители и специалисты колхозов. Очень дружен отец был с фронтовиками – казахом Кумкубаем (фамилию не помню) из Савинки и председателем колхоза из Обалов немцем Энсом Яковом Яковлевичем. Кстати, когда награжденный орденом Боевого Красного Знамени немец Энс Яков Яковлевич на фронте нес службу в армейской разведке, его семью выселили в Казахстан в казахский аул Обалы, где только после войны он ее нашел.