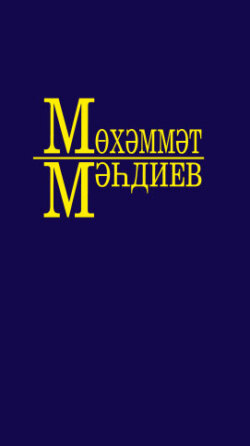Читать книгу Әсәрләр. 8 томда / Собрание сочинений. Том 8 - Мухаммет Магдеев - Страница 17
Тынгысыз каләм
Иван Бунин и татарский фольклор
Оглавление«Позвольте, о каком Бунине идёт речь? О выдающемся русском поэте и прозаике? Бунине, который перевёл на русский язык «Песню о Гайавате» Лонгфелло, стихи Саади, Ады Негри, словом, – с немецкого, итальянского, польского, французского?»
Именно такой вопрос возникнет у читателя при виде заголовка этой статьи.
Да, речь идёт об Иване Бунине, прекрасном русском писателе, поэте и переводчике. О Бунине – писате- ле недюжинного таланта, эрудированном, интеллигентном человеке своего времени. Впрочем, такими были Л. Н. Толстой, А. И. Куприн, А. П. Чехов, А. М. Горький…
Филологам известно, что татарский язык изучал великий демократ Н. Г. Чернышевский: в архиве писателя нашли словари, где рукой Николая Гавриловича написаны русские слова и переводы к ним на татарском языке. Известно также, какой интерес проявлял А. М. Горький к татарам: он общался с ними, знал их обычаи, с большим уважением относился к их песням. Ему была знакома поэзия Г. Тукая. В одном из своих писем к Сергееву-Ценскому он процитировал строки из его стихотворения «Разбитая надежда».
Но мало кто знает о том, что с татарской поэзией был знаком и И. Бунин. Впрочем, для науки это – не новость.
Журнал «Памир» (орган Союза писателей Таджикистана) в 1969 году опубликовал забытые переводы И. Бунина с предисловием Л. Усенко. Как отмечает автор предисловия, эти переводы Бунина не включались ни в одно из собраний сочинений. Наряду с переводами из «Бустана» Саади, Ады Негри журнал помещает и перевод песен казанских татар. Эти песни были опубликованы в книге Бунина «Стихотворения» (1887–1891), изданной в Орле в 1891 году.
Татарские песни интересовали многих ориенталистов, учёных. Записывали их и фольклористы, и лингвисты, и просто путешественники, а чаще всего – руководители экспедиций, изучающих экономику, природу Казанского края. Переводили песни и удивлялись: в народных песнях их поражало отсутствие текстологической, смысловой целостности. Ведь, в самом деле, в первых двух строках четверостишия речь могла идти о чём угодно: цветах, лошадях, птицах, ветре или о белом платке. Основной смысл песни передавался последними двумя строчками. Некоторые путешественники писали в своих дневниках: что это за песня о любви, когда в первой её части влюблённый хвалит своего коня? Полковник А. Ф. Риттих, путешествуя по Казанскому краю во второй половине XIX века, тоже записывал татарские народные песни. Обобщая свои наблюдения, он писал, что многие татарские песни «не имеют ни смысла, ни связи предыдущих идей с последующими; они представляют собой ряд необработанных, как бы мелькающих мыслей, оригинальных по своей внезапности в переходах».
Но так думал и так переводил полковник Риттих. В последней же четверти XIX века татарской песней заинтересовался поэт Бунин. Как отмечает составитель текстов «Литературного наследства»28, источник, которым пользовался Бунин, неизвестен. Нигде в архивах Бунина об этом не упоминается. В татарской фольклористике о том, что Бунин был знаком с татарским устным народным творчеством, никаких сведений нет. Пересказал ему кто-то содержание наших песен? Нет, пересказа тут мало. Бунин имел под рукой доподлинный текст татарских песен. Владел ли он татарским языком? Маловероятно. Впрочем, Бунину легко давались языки – это известно. Но перевод сделан с полным сохранением национального колорита. Знатоки татарского фольклора, думается, легко восстановят вот эти тексты переводов, где поэт позволил себе единственную «вольность»: он сделал из четверостиший – основной формы татарских песен – восьмистишие.
I
Не за Белой ли рекою
О, беляночка моя! –
Не за белой ли рекою
Слышны песни соловья?
Всё тебе порассказал я,
Много сказок прежних дней.
Если б только испытал я
Сладость нежности твоей!
II
Моя беленькая девушка,
Мы пойдём гулять вдвоём!
Пусть глядят и удивляются –
Мы пойдём гулять вдвоём!
Моя беленькая девушка,
В позументе воротник!
Ведь у всех разумных девушек
В позументе воротник…
III
Не поют ли соловьи
В чаще тёмной и пустой?
Друг любимый, дорогой,
Я страдаю от любви!
Тёплым гнёздышком в лесу
Соловьи обзавелись…
Только нам уж никогда
В этом мире не сойтись!..
IV
Говорят, что вся клубника
Белым цветом зацвела,
Говорят, что так же точно
Грудь у девушек бела…
Аршин белых позументов
К рукавам и на подол –
Я боюсь, что это много,
Слишком много за камзол!
Так поэтично прозвучали «неподдающиеся» разным путешественникам народные песни под пером прекрасного поэта и прозаика Ивана Бунина.
Кстати, и татарским поэтам были знакомы переводы Бунина. Так, например, в десятые годы нашего века молодой фольклорист, поэт и прозаик Гали Рахим перевёл на татарский язык балладу «Лесной царь» Гёте, которая в виде инсценировки использовалась в домашних спектаклях. Сделал же он татарский вариант не с немецкого, а с русского – с прекрасного перевода Ивана Бунина.
Повлияло ли творчество И. Бунина на творчество татарских поэтов и прозаиков в начале века? Наверняка, ибо филологами уже «прощупываются» нити, идущие в татарскую литературу от Блока, Бальмонта, Андреева и др. Словом, многогранное творчество выдающегося русского писателя не могло оставаться только в рамках русской литературы – это бесспорно.
Советская Татария. – 1977. – 23 января
28
Иван Бунин. – Кн. 1. – М. : Наука. – 1973.