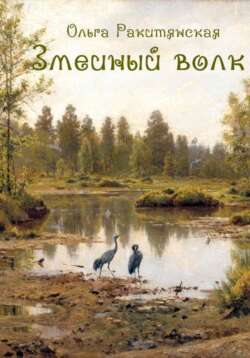Читать книгу Змеиный волк - Ольга Ракитянская - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 21
ОглавлениеВесна для Веры в новом году началась уже в январе. Нет, вокруг по-прежнему лежали плотные глубокие сугробы, стояли морозы под двадцать градусов, а солнце, хотя и светило ярче («на весну повернуло!», говорил дядя Паша-пьяница, нюхая воздух), все еще не грело, и синички за окном не торопились заводить весенние песенки – только тихонько цвенькали да громко ссорились-пищали на кормушке.
И все же Вера чувствовала, как что-то новое, пока не до конца понятное, но мощное и неотвратимое, как весеннее половодье, входит в ее жизнь. Она словно заново открывала все вокруг: и людей, и птиц, и ельники у Осиновой, и даже здешние болота, прежде так пугавшие ее. Вера никак не могла привыкнуть к тому, что, оказывается, кое-что значит для местных жителей, и не только как учительница – не могла понять, чем заслужила это, и в конце концов оставила даже попытки: просто принимала это с радостным удивлением, как принимают нежданный подарок. Теперь она снова, как прошлой зимой, ходила в лес на лыжах – не только на охотничьих, вместе со школьным кружком «Птицеглядство» (это название придумали, конечно, «Деды»-старшеклассники), но и в одиночку, на беговых, осмеливаясь заходить все дальше и дальше по дороге на Митино. Молчаливые ели по сторонам лыжни и дороги уже не казались ей угрожающей стеной – ведь в самый страшный свой час, в глухую морозную ночь она решилась шагнуть туда, за пределы, и знала теперь, что таится за ними: не только мрачный бурелом, но и уютные полянки посреди чащи, и пушистые юные елочки. И все же забираться в чащу одной, уходить с дороги Вера не решалась: вспоминалась история пропавшего дядьки Егора, услышанная за новогодним столом. Пугаться болота и чащи не стоило – но их стоило уважать.
Зато вместе с «Дедами-птицеведами» и Юлией Сергеевной она обошла на лыжах все перелески вокруг Осиновой, добиралась и до Волчьего болота, самой большой мшары в здешних местах, куда деревенские ходили осенью за клюквой. На мшаре Вова Журавлев показал остальным кое-что интересное: разгреб снег у нарочно воткнутой палки-отметки (значит, ходил сюда один, отметила про себя Вера), продемонстрировал кружку большой пузырь воздуха, вмерзший в лед, а потом достал из кармана спички, чуть надколол лед и осторожно поджег. Пузырь полыхнул синим пламенем. Девчонки завизжали, парни шарахнулись, а довольный Вова пояснил:
– Болотный газ. Он подо льдом скапливается. Меня батя научил такие искать.
– Газ? – с некоторым беспокойством спросила Вера. – А это не опасно?
В памяти всплыли давнишние слова Андрея про болотные газы и испарения, вызывающие галлюцинации.
– Нет, – с усмешкой пояснила за растерявшегося Вову Юлия Сергеевна. – Не та концентрация газа, чтобы было опасно. Вот если, конечно, человека с головой туда засунуть… Но таких огромных «кошек» и не бывает.
– Почему – кошек? – не поняла Вера.
– А это пузыри с газом так называются! – снова воодушевился Вова – все-таки кое-что он знал про этот газ. – Батя тоже говорил – «кошки». Они, видите, такими синими язычками горят, как кошачьи уши. Наверное, поэтому.
Вере живо вспомнились «Сказы» Бажова, одна из любимых книг детства: там тоже была подземная синеухая кошка, с ушами, похожими на язычки пламени. Да и кошка ли – ведь тела ее в том рассказе никто не видел, одни только синие уши-огни на болоте. Могла ли Вера в далеком детстве подумать, что однажды сама встретится с таким дивом – и не на далеком Урале, а прямо под Москвой?
– А летом? – все же решила уточнить она. – Когда газ не вмерзает, а испаряется?
– А вы посмотрите, – кивнула Юлия Сергеевна в сторону догорающей «кошки». – Сейчас газ только накапливается – и вот сколько за всю зиму накопилось. Совсем небольшое количество. А уж когда испаряется постоянно, ветром его разносит – и подавно не о чем беспокоиться, концентрация минимальна. Вот в шахтах или в старых колодцах, да, случаются отравления. Там тоже может накапливаться метан. Но это ведь под землей, не на открытом воздухе. На поверхности все иначе. Может, конечно, где-то и есть такие болота-гиганты, где-нибудь в тропиках, чтобы газ можно было почувствовать… Не знаю, но не у нас уж точно.
– А моя бабушка говорит, – хмыкнула Люба Смирнова, – что в Рошале раньше «лисий хвост» на небе видели. Такая полоса из рыжих газов. Бабушка там на заводе в девяностых работала. И от этого хвоста люди болели.
– Вот-вот, в Рошале на заводе, – кивнула Юлия Сергеевна. – Боимся мифических болотных газов – а сами… «Лисий хвост» – это ведь заводские газы. От вредных технологий. Знали бы вы, ребята, сколько этот химзавод тут всем попортил крови – в самом буквальном смысле. И рак, и больные дети, и что только не… А когда его разорили – еще хуже стало. Там за забором целая аномальная зона, из брошенных химикатов – хозяина нет, позаботиться некому. И вся эта химия с весенними ручьями, с дождями куда стекает? В Воймегу, в лес, в те же болота… Так что не болот надо бояться, не болот. Они-то как раз – здоровая экосистема. Клюкву небось все любите?
– А я в интернете прочла, – сказала Люба, – что скоро день водно-болотных угодий! Давайте на канал про это напишем и фоток наделаем? А Вован нам еще «кошек» найдет, можно будет такое видео запилить, сразу миллион просмотров наберем!
У «Птицеглядства» давно уже имелся свой канал в Телеграме. Создали его «Смешарики»-младшеклассники, которых не брали в лесные маршруты, и они довольствовались тем, что снимали птиц на кормушках. Впрочем, старшеклассники вскоре перехватили инициативу, и теперь на канале появлялись не только фотографии и видео, но и небольшие тексты, и даже мемы. Остальные школьники поначалу только хихикали и поддразнивали «птицеглядов», но потом незаметно как-то так получилось, что на канал подписалась почти вся школа. А когда Люба Смирнова рассказала про это своему дяде-егерю, и тот поделился ссылкой на канал в паблике Шатурского лесничества, после чего в подписчиках появились взрослые егеря, биологи и даже местный охотовед Михалыч – «птицегляды» и вовсе задрали нос.
Только одно огорчало Веру в этой новой интересной жизни: начал сильно болеть Андрей. С тех самых пор, как он вернулся из Рошаля, его постоянно мучала поджелудочная. К тому же начались незнакомые ему раньше приступы мигрени – такие, как бывали прежде у самой Веры. В такие дни он лежал пластом, и Вере приходилось ухаживать за ним. Теперь нередко случалось, что прямо во время урока Вера получала сообщение на Вотсап: «Возвращайся скорее, плохо себя чувствую» – и весь оставшийся урок она сидела как на иголках, а сразу после работы мчалась домой, к страдающему мужу, пропуская и даже отменяя ради этого какие-нибудь интересные внеклассные занятия. Приходили такие сообщения и в другие, самые неожиданные часы: например, когда Вера сидела в гостях у тети Клавы или Меряевых, или бежала на лыжах по митинской дороге, или наблюдала за интересной птицей где-нибудь в ближайшем перелеске. Каждый раз приходилось бросать все и поворачивать домой – иначе, как Вера знала по опыту, весь следующий день, а может быть, и неделю Андрей будет ходить с опрокинутым лицом, как бы невзначай припоминая ей ее мелкое предательство. Да и саму ее станет мучить чувство вины: ведь нельзя же бросать в болезни самого близкого человека ради каких-то личных дел. В конце концов, личное можно и подвинуть ради другого – разве не в этом состоит долг любящей жены?
Конечно, говорила себе Вера, Андрей не виноват, что заболел. И уж тем более не виноват в том, что прошлой осенью случилось то несчастье с Надей, и Марина покинула Осиновую навсегда. А ведь ее гомеопатия так помогала Андрею когда-то. Теперь дом за зеленым забором стоял пустой и молчаливый, тоскливо глядя на мир темными глазницами окон. За зиму его совсем засыпало снегом, сугробы поднимались до самого подоконника, а калитку было и вовсе невозможно открыть – так ее замело. Дом казался островком заброшенного поля посреди поселка: ни один человеческий след не вел к нему, только цепочки кошачьих следков да крестики птичьих. Может быть, там, под кустами смородины или под завалинкой, зимовал еж, как у тети Клавы – но сейчас и он, если и был там, спал беспробудным сном и не мог оживить унылого пейзажа. Вера уже знала, что спящего зимой ежа легко принять даже за мертвого.
Несколько раз за январь и февраль Андрей ездил в Москву – как он говорил, к знакомому врачу. Но тот не мог найти ничего особенного, только прописывал все те же ферменты, какие Андрей пил и раньше, а мигрени объяснял нервами. Передавая Вере это врачебное мнение, Андрей принимал грустный вид и смотрела на жену с некоторым намеком. Она, конечно, понимала, о чем он – за годы совместной жизни научилась читать его жесты и взгляды без слов: «Ты постоянно со своими школьниками и птичками, со своими подругами, а я нервничаю в одиночестве, покинутый всеми, даже собственной женой».
Но странное дело – еще совсем недавно даже пара подобных взглядов и намеков ввергла бы Веру в пучину вины, совесть жгла бы ее изнутри, а она корчилась бы на этом огне, всячески пытаясь искупить свои промахи перед мужем. Теперь же Вера с удивлением замечала, что намеки Андрея и его постоянные болезни чем дальше, тем чаще скорее раздражают ее, а в остальном – почти не задевают. Несколько раз она даже намеренно забывала снять телефон с беззвучного режима, когда отправлялась на лыжную прогулку или в очередной маршрут с «птицеглядами». И, конечно, на обратном пути обнаруживала там сообщения от Андрея, призывавшие ее скорее вернуться домой – но почти не переживала из-за этого, чувствуя себя, как школьница, которой удалось ловко избежать родительского надзора. Дома она, конечно, старалась загладить вину, приготовив мужу что-нибудь из его любимого диетического, без единой щепотки специй и с минимумом соли – например, картофельное пюре на воде, с паровой котлеткой. Но этим дело и ограничивалось.
Начиналась весна, снег в лесу совсем просел, так что местами сквозь лыжню была видна черная земля, и лыжи царапали бугорки промерзшей почвы, старые ветки и сгнившие за зиму шишки. Даже в ельниках, где сугробы еще держались, все стало слишком рыхлым, так что лыжник проваливался в снежную кашу из острых кристалликов льда. Прогулки и маршруты пришлось временно прекратить – снегоступов ни у кого в поселке не было.
Впрочем, даже оставаясь дома, Вера не скучала: у нее появился новый, неожиданный интерес – местные названия. Топонимы – так это называлось по-научному. Воймега, Шатура, Ушма… Тети Клавины смутные упоминания о каком-то «старом языке» – видимо, не так уж и давно умолкшем в Мещере, раз о нем еще помнили местные старушки, пусть даже и те, что были старушками уже в годы тети Клавиной молодости. Что же это был за язык? Что означали так непривычно и сказочно звучавшие названия рек, холмов, деревень и урочищ?
Вере казалось, что теперь, пройдя через зимнюю чащу, побывав в избушке без стен у Бабушки Елки, признав у лесного костра знакомство с Медовой матушкой – она имела право к этому прикоснуться.
Конечно, когда Вера в попытке найти ответ залезла в интернет, первыми в поиске выскочили статьи краеведа Поехалова и его главного оппонента – Червякова. Досадливо поморщившись, Вера промотала список санскритских опусов и многочисленных перепостов на разных сайтах – их было столько, что пришлось перейти на вторую, а потом и на третью страницу поиска. Наконец, когда Вера уже начинала отчаиваться (неужели совсем никто больше про это не пишет?), ее взгляд наткнулся на адрес сайта со странным названием «Мерямаа». Именно необычность названия, чем-то неуловимо похожего на мещерские, подсказала ей – вот оно!
Вера открыла сайт – и пропала: столько информации враз обрушилось на нее.
Сайт был посвящен финским народам Верхневолжья – древним жителям и Московского, и Владимирского, и Костромского, и многих других краев Средней полосы. Но писали там не только про финские племена и языки: Вера была поражена, сколько самых разных волн народов, языков, культур прокатывались по этим местам, причудливо смешиваясь и наслаиваясь друг на друга.
Меря, мурома, таинственная мещера – народ или просто одно из прозвищ, данное соседями? Кривичи и вятичи. Загадочные рязано-окцы – народ воинов и амазонок, где женщины участвовали в битвах наравне с мужчинами. Финны, славяне, балты, сарматы, даже готы… Все они проходили здесь, оседали, врастали в эту землю, оставляя ей свои имена и предания, свои серые, карие, голубые глаза, свои черты лица, обычаи и словечки.
Вера не понимала только одного: как могли краеведы, живя рядом с таким богатством – да что там, прямо на нем! – не замечать его и вместо этого придумывать какое-то невнятное родство с Индией и Гангом, тянуться изо всех сил к далеким экзотическим краям, хотя чудесное, еще не познанное сокровище лежало у них под носом – только руку протяни? Как будто мало было у здешних мест настоящих, подлинно своих загадок – за целую жизнь не разгадать.
Ей вспоминалось теперь, как давным-давно, еще в детстве, она мечтала стать археологом. Не стала, конечно – английский казался доступнее. А потом, за долгие годы тоскливого одиночества и позже, в заботах об Андрее, она и вовсе разучилась думать о том, чего же хочется ей самой.
Но мечта, оказывается, все эти годы таилась в душе, продолжала жить, как цветок под снегом. Ждала весну. И теперь, разбуженная половодьем – поднимала утомленную головку, расцветала навстречу весеннему солнцу.
Археология, поиск истины в темных глубинах прошлого, в недрах земли и болот… Всегда ли для этого необходимо брать в руки лопату, кисточку или скребок? Разве загадки старых языков и названий, преданий и сказок – не такие же темные недра, где сокровища прошлых веков только и ждут, чтобы их отыскали?
Мартовское солнце ликующим потоком вливалось в окно, не считаясь ни с какими преградами. Первые кучевые облака неслись по небу с весенним ветром, звали на лесные дороги и болотные тропинки.
И Вера знала, что не сможет не откликнуться на их призыв.